«Я не кремирован — я премирован»
ТемноFMЗнаете, в США есть понятие «оскаровской драмы» — это когда фильм снимается не для зрителя, а для критика, будучи загодя отформатированным под запросы/вкусы узкой профессиональной тусовки. В русскоязычном книжном мире наблюдается схожий процесс, так что впору говорить о «премиальном тексте», выполненном по неким понятным (всем и никому) стандартам, отвечающим цеховым чаяниям.
Если вынести за скобки патриотический гос-лубок и СВОшные художества, премиальная литература последних лет отчетливо делилась на «поток» и «приток». К первому относились более-менее массовые тексты самого разного качества, от близкого к совершенству «Филэллина» Юзефовича до уныло-посконных романов Водолазкина и Варламова. Ко второму — малотиражные эксперименты «для своих», вроде аутичных трагифарсов Данилова и авангардных исканий Пепперштейна.
В настоящее время за «поток» отвечает собирательная «Большая книга»; за «приток» — «Премия Андрея Белого» и, в меньшей степени, «Ясная поляна».
С каждым годом книги, относящиеся к «потоку», интересны все менее, — давление цензуры и, что еще хуже, самоцензуры закономерно вымывает из литературного мейнстрима наиболее спорные, острые и полемичные тексты. Многие авторы уезжают, замолкают или начинают писать чисто жанровые вещи (почти всегда — без особого успеха, хотя случаются и блестящие исключения: вспомним свежепремированную «Сороку» Веркина). Крамола уходит в тамиздат, центр выхолащивается, а фарватер смещается к краю, где еще ощущается ток свежих вод.
Именно там, в притоках и заводях, доныне появляются «премиальные тексты», примечательные не перипетиями интимных (взаимо)отношений их автора с государством, но — смешно сказать — формой, языком, стилем. Эти тексты не всегда хороши (чаще все-таки не), однако само их наличие дает представление об уровне и направлении литературы, пишущейся по-русски. And last but not least: премии/издательства, формирующие «приток», — это, пожалуй, единственное место, где уехавшие и оставшиеся продолжают (со)существовать, не размежеванные идеологией и границами.
Литература — великий уравнитель, а потому в «притоках» находится место и вестернизированным шарадам Гелианова (короткий список «Премии Андрея Белого»-2024), и стихийно-христианской архаике Николаенко (лауреат «Ясной поляны»-2023), и европейскому бессильному созерцанию Безносова (короткие списки «Премии Андрея Белого»-2024, 2025).
Спрямив, наконец, эту неконтролируемо затянувшуюся преамбулу, мы переходим к предмету сегодняшнего разговора, т.е. «Овидий-роману» Егора Зернова — идеальному «премиальному тексту» эпохи истерических неорусских 20-х.
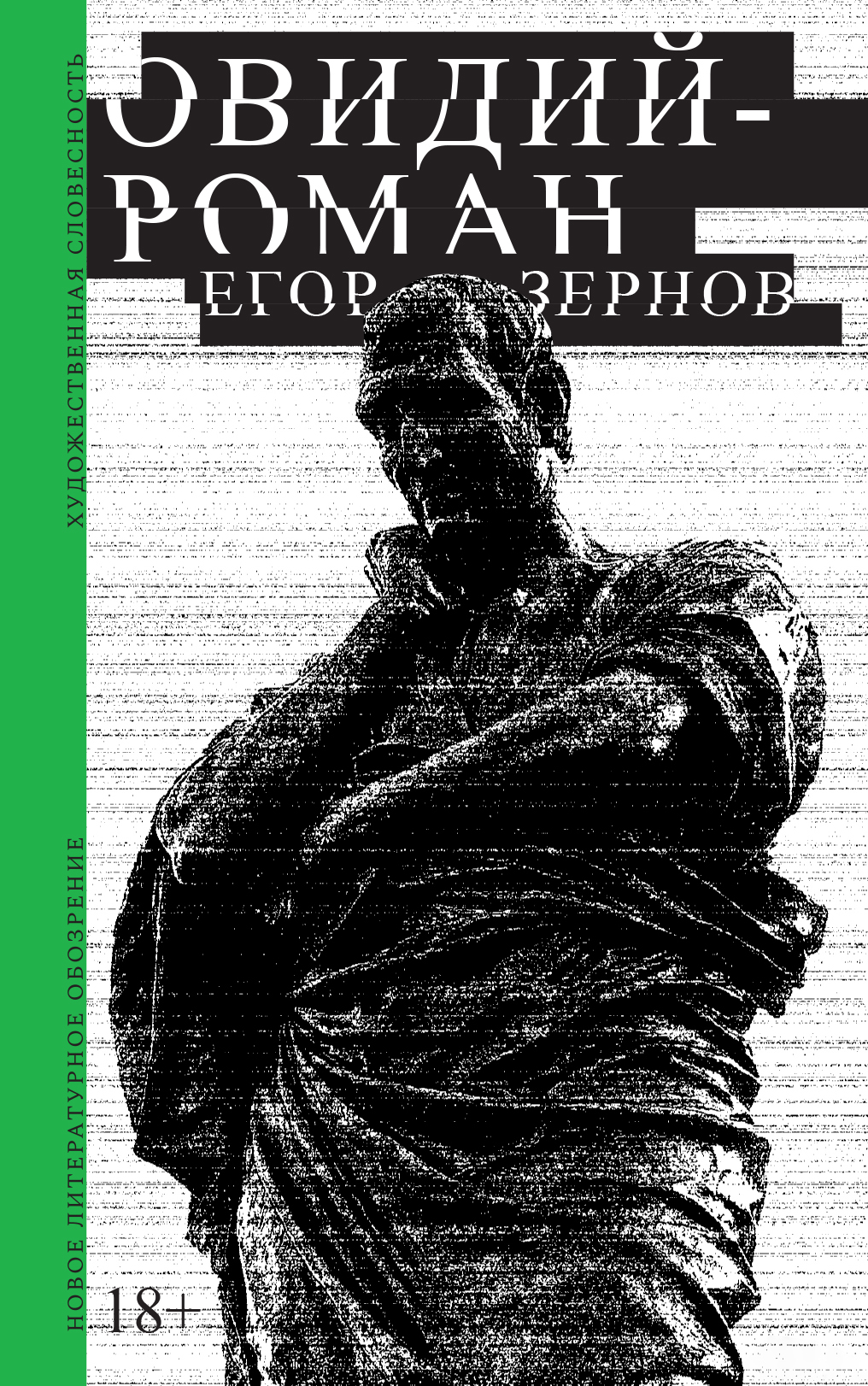
Автор, который не автор, но герой, режиссер и комментатор в одном лице.
Роман, который не роман, а набор кинематографичных миниатюр.
Самопроизвольный памфлет в лакунах запретных тем.
Винегрет имен, заглавий, цитат.
Конструкция из деконструкции.
Словесный оргазм.
Этот текст легко разобрать на запчасти и сдать в уценку — в нем избыток пубертатного гонора, не уравновешенного еще мускулатурой навыка. Его лексика скудна, метафорика произвольна; в нем сюжет подменяется ритмом, а опыт — списком прочитанного/посмотренного.
Из начала:
«Дым был настолько настоящим и заметным, что казался прифотошопленным к синему фону летнего города, он сдавливал пространство своим объемным кожаным телом, на теле торчали жирные жилы, воткнешь в него иглу, и на постройки из резко расширяющейся дыры выльется густая смола».
Ярко, броско, но стоит вглядеться — предложение распадается на каламбуры. Дым, который «сдавливает пространство своим объемным кожаным телом», и тело, из которого торчат «жирные жилы», иглы и льется смола. Боди-хоррор какой-то, а не пейзаж.
Так пишут студенты с богатым воображением, не умеющие подобрать точных слов и выбрать одну емкую метафору вместо нескольких «как бы подходящих» под мыслимую картинку.
Из конца:
«Если стоять на одном месте достаточно долго, мрамор запружинит, звук проезжающего поезда превратится в батут, на котором можно прыгать столько времени, сколько захочется, пока не раздастся резкая вспышка белого, но чуть грязного света, оглушительный хлопок, серия громких звуков, прозвучит чье-то падение и чей-то крик».
И вновь — внешний эффект превалирует над понимаем сути написанного. Может ли мрамор «запружинить»? Спорно, но допустим. Может ли звук проезжающего поезда «превратиться в батут»? Ну, вряд ли. Может ли вспышка света «раздастся»? Однозначно нет. Как и падение – «прозвучать».
Это текст-выпускник, текст-конспект. Он бегло несется по головам великих, не привнося ничего от себя. Его герой настолько переполнен чужим визуалом, что рискует потеряться в пене резанной пленки на монтажном столе. Здешний Овидий случаен, как и Данте — из схожей по форме (и качеству) книжки «Любовь» Вани Чекалова. Того обозвал «гением» вездесущий Быков, этого — товарищи по премиальному несчастью. В обоих случаях эпитеты сыплются авансом, учительски-барско, словно карамельные фантики, липнущие к зубам.
И тем не менее, обозначив базовые слабости текста, его поспешность и назойливую дебютантскую природу, следует признать, что «Овидий-роман» великолепен в том главном, в чем автор действительно преуспел, а именно — в ритмике.
Зернов не всегда чувствует слово, но всегда — ритм. Это проза поэта в самом чистом, кристаллизованном виде. Она не про конфликт, не про смысл — ее стихия drum beat, ход метронома, step dance. Если переписать текст романа в столбик, дольником, получится вполне себе эпическая поэма, причем не из последних:
«То, что было прежде, только увертюра. Сам Публий Овидий Назон будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами в пелеринах, предводительствуемые козлом-регентом, в буйном восторге выводя, как плясовую, «Вечную память», вынесут полицейский гроб с останками моего дела из продымленной залы окружного суда. Я плачу и рисую, под собою не чуя страны, документ о собственной беспомощности, о собственной несостоятельности, — гляди, Эсхил, гляди, народ-Гомер, как я рисую, плача, как я плачу, рисуя. Я стою здесь, невыносимо одинокий, не понимая, где ты, мой адресат, видно, не судьба, видно, нет любви. Может, недостоин я еще иметь друзей, пусть не насыщен я и желчью, и слезами! Но все ты чудишься в шинели, в картузе, Назон на чудной площади с счастливыми глазами».
Написано здорово и не суть важно, о чем — ритмика столь точна и взрывоопасна, что на остальное, по большому счету, плевать. Зернову не удается вовремя менять регистры, скорость, настроение, его текст монотонен, как долбеж дрели в нижней челюсти, — но в тех случаях, когда ритму удается-таки завладеть читательским восприятием, «Овидий-роман» производит очень сильное впечатление, сродни, быть может, чтению «Двенадцати» или «Поэмы без героя» — а это, согласимся, уровень, о котором сверстники Зернова (да и не только они) могут только мечтать.
Гений? Оставим пышные авансы маловерным. Дадим слово кротким, наследующим зерна и плевелы.