Переезд
Larry Verton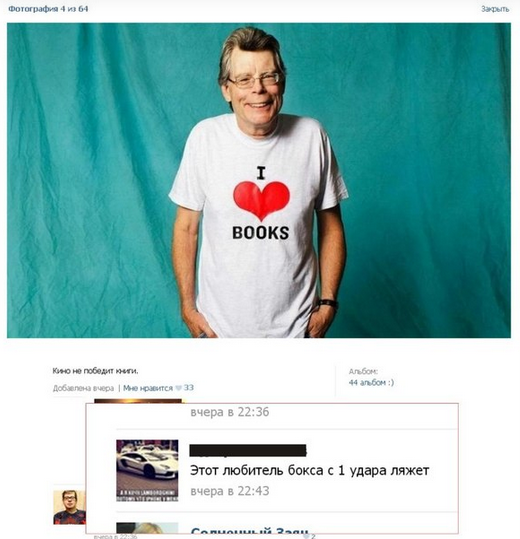
Однажды ты натыкаешься на какой-нибудь свой старый комментарий, хватаешься рукой за лицо и думаешь: «какой позор… зачем я это написал?» И стопроцентно осознаёшь, что вот сейчас ни за что бы не ляпнул такую дурь, не полез бы в спор на тему, в которой толком не разбираешься, не стал бы бросать в собеседника идиотские оскорбления…И казалось бы, что может быть проще, чем промолчать? Ведь это же так легко – просто ничего не делать. А главное – это абсолютно безопасно. И вот ты ещё разок качаешь головой, признавая свой идиотизм, и обещаешь больше никогда не творить такое. Даже тысячу раз подумав - ведь вдруг в будущем твоя точка зрения изменится, и тебе опять будет стыдно?
Сожаление о давних глупых поступках. У кого такого не было-то? А как насчёт тех, для кого одно такое сожаление переросло в трагедию? Для кого решение больше не писать комменты стало началом медленного, но верного разложения мозга и жизни? Что ж, приветствую вас в своей истории. Я как раз один из таких.
Всё началось действительно с одного старого комментария, который я написал, будучи юным и безрассудным. На самом деле, таких было куда больше, но лишь один вдруг всплыл на одном из развлекательных сайтов. Чей-то скриншот, украшенный стикером фейспалма, вызвал волну осуждения и насмешек над «тупым школьником», пытающимся казаться умным.
Сначала я схватился за голову, рассмеялся, даже слегка погрузился в ностальгию, а потом… сложно описать это чувство. Это как будто огромное слово «НЕТ», вспыхнувшее в ночном небе, когда ты решил не идти домой, а продолжить бухать с друзьями. И вот ты разворачиваешься, грустно машешь собутыльникам рукой и плетёшься в сторону спасительной квартиры, несмотря на бурное несогласие всех присутствующих. И даже своё – ведь стоит тебе только задуматься о продолжении банкета, небесная надпись тут же вбирает в себя энергию тысячи солнц и сжигает тебя заживо.
Не знаю, что стало причиной всего этого. Позор, стыд, совесть, желание выглядеть умным и адекватным… на самом деле, всё это – фигня. Это лишь выдуманная причина, а реальная – пока за пределами нашего понимания.
Несмотря на то, что я уже очень давно перестал писать комментарии без скобочки-улыбочки в конце, что уже много лет назад перестал влезать в агрессивные споры, что-то внутри меня запретило мне общаться в интернете. Будто на это действие был наложен программный запрет, и как бы я ни пытался его обойти, у меня ничего не получалось. Доходило до ярости и разбитой клавиатуры, отчаяния, бессонных ночей и приёма всех возможных безрецептурных успокоительных, но все эти действия лишь усиливали эффект «сжигающего НЕТ».
Помогало только одно – расслабиться и не думать об этом. Отойти от компьютера, убрать телефон в карман, включить фильм или начать что-нибудь читать. И всё. Я быстро смирился с этим. Ну подумаешь, комменты не могу писать, ну вот такой я, вот такая у меня странность. Мало ли, у кого что бывает. Зато моя странность хотя бы не мешает нормальной жизни.
Но увы, если бы на этом всё закончилось, этой истории бы не существовало. Через неделю у меня появился новый запрет. Однажды я просто не смог вслух произнести слово «хочу». Всё то же самое – гнев, ярость, краснеющее от напряжения лицо, но увы, никак. Спустя несколько дней я хоть и слегка забеспокоился, но принял новую проблему и просто заменял «хочу» на желаю».
А ещё через пару дней я не смог повернуть голову в правую сторону. На самом деле, знакомое ощущение – ведь у меня неоднократно вдруг начинала болеть шея, повернуть её было крайне проблематично, поэтому приходилось разворачивать всё тело, чтобы посмотреть в нужную сторону. Вот и теперь приходилось действовать именно так. При этом, если расслабить шею, то руками можно без проблем крутить голову во все стороны, но мышцы наотрез отказывались выполнять то же самое.
Эта проблема заставила меня начать что-то предпринимать. Вдруг у меня микро-инсульт или ещё какое-то повреждение мозга? Вдруг всё ещё можно исправить, но если тянуть, станет слишком поздно?
Первые обследования ничего интересного не показали и как только дело дошло до психотерапевта, я понял, что всё, скорее всего, плохо. Всё куда хуже, чем я ожидал. В кабинете меня встретил насмешливым взглядом лысый мужичок, толстый и почти такой же круглый, как и его голова. Весь его вид был пронизан недоверием и раздражением, он будто говорил мне «ну давай, расскажи про свою великую депрессию из-за пары дней плохого настроения».
Но когда я начал рассказывать, как только упомянул «запрет на действие», лицо его кардинально изменилось. Шея вытянулась, голова стала немного ближе к овалу, сгорбленная спина выпрямилась, из-за чего врач уже не казался таким толстым. Хитрая полуулыбка испарилась, кончики губ устремились вниз и, кажется, он даже слегка задрожал. Не дожидаясь завершения моих жалоб, он быстренько написал что-то на бумажке, грустно вздохнул и протянул её мне:
— Вот, позвоните. Долонский Андрей Павлович, он поможет.
Не думал, что психотерапевт может так отреагировать на очередного сумасшедшего. Мне всегда казалось, что эти люди могут сохранять спокойствие в самых невероятных ситуациях, что даже став заложниками у безжалостных преступников, они улыбнутся, скажут парочку хитрых фраз и заставят злодеев сдаться. Что такого должен был узнать мой психотерапевт, чтобы настолько явно испугаться? Мои надежды на скорое излечение в один момент рухнули.
Андрей Павлович, в свою очередь, очень бодро меня успокоил, сказал, что у него целая клиника посвящена этой проблеме и назначил встречу. Диагноз по-прежнему умалчивался, на все вопросы было предложено ответить при личном общении.
«Клиника» оказалась старым, рассыпающимся и, кажется, разваливающимся двухэтажным зданием. Насколько мне известно, когда-то здесь была маленькая школа, закрывшаяся из-за своей невостребованности. После этого её быстро обнесли глухим забором, повесили на ворота замок, и так она простояла с десяток лет, пока не была переделана под некую «Неврологическую клинику им. Долонского». Забор оставили, ворота ещё сильнее укрепили, но теперь туда хотя бы можно было попасть. Жаль, что именно таким образом.
Прямо за воротами, чуть правее, в огромную кучу были свалены все школьные вещи – парты, доски, бумага и какие-то плакаты, цветочные горшки… вдоль здания, с обеих сторон, тянулись широкие клумбы, заросшие однообразными тусклыми сорняками. Даже главный вход был частично перекрыт несколькими травинками, уныло покачивающимися на ветру. Сложно было поверить, что за этими стенами сейчас кто-то есть.
Андрей Павлович – огромный, тучный, седой старик, встретил меня лично, приветственно поклонился и пригласил в кабинет. Наверное, когда-то здесь восседал директор школы.
— Так, Пётр, - обратился он ко мне и задумался, вспоминая отчество.
— Алексеевич.
— Пётр Алексеевич, - он жестом предложил мне присесть, - я буду с вами максимально честен и откровенен. Никаких расплывчатых ответов, никаких «давайте посмотрим» и прочей чуши. Проблема, с которой вы столкнулись, известна давно, уже около тридцати лет. В то время я был ещё молод и стал свидетелем одного из самых первых случаев. Я заканчивал учёбу, как раз в нашем Смоленском государственном медицинском институте, проходил практику. Тогда я и познакомился с Андреем, да, со своим тёзкой. Он отказывался ходить, именно так говорили врачи. Кто-то считал его злостным симулянтом. А как иначе? Человек ни с того, ни с сего вдруг понял, что не может поднять ногу, сделать шаг, а потом опустить её на землю. То есть, сами ноги-то работают, мышцы напрягаются, а вот ходить – никак не выходит. Я не спорю, психологических проблем существует великое множество, но вы сами поверили бы в такое? Тем более, если в вашей практике не было ничего и близко интересного.
— Ну, сейчас-то я бы поверил, - неуверенно ответил я, когда молчание Долонского затянулось.
— Само собой! – невесело хмыкнул Долонский. – Вскоре его состояние стало ухудшаться, стремительно и бесповоротно. Сначала он перестал жевать пищу, затем разучился пользоваться большим пальцем правой руки… ну, и дошло до того, что он полностью перестал двигаться, питаться и разговаривать.
— И… что в итоге? – спросил я севшим от волнения голосом.
— Я ещё раз повторяю, я буду честен и открыт, - Долонский тяжело выдохнул и грустно посмотрел мне в глаза. – Он умер. Однажды его мозг перестал проявлять признаки активности, человек превратился в растение, и было решено отключать его от аппаратов. Он уже не мог самостоятельно дышать. К тому моменту его случай уже стал достаточно известен в узких кругах, велись даже разговоры об отправке ещё живого тела куда-то за границу, но… как-то всё замялось и забылось. Ну, необычный случай, и что? Мало ли, что бывает.
— Но на этом ведь не закончилось? – задал я глупый вопрос.
— Угу, - кивнул Долонский, - уже через полгода поползли слухи о втором подобном пациенте. Порядок отключения организма был совсем другим, но неуклонно стремился к уже знакомому финалу. Не успел этот пациент умереть, как появился следующий, а за ним ещё один, и ещё.
Андрей Павлович устремил взгляд куда-то сквозь стол, облизнул пересохшие губы и покачал головой.
— Я, молодой и любопытный, бегал от пациента к пациенту, спрашивал, разговаривал, записывал… можете себе представить энтузиазм молодого начинающего врача, которому предоставился такой шанс? Я мечтал, что открою новую болезнь, найду лечение и прославлюсь на весь мир. Но увы, первое время всем было плевать. Погибающих от неизвестной хвори людей за людей уже не считали. Очередная недееспособная обуза, за которой нужно ухаживать. Один я, подобному одному из самых сумасшедших, бегал, требовал, просил… эх, молодость…
— Ну, я вижу, что у вас всё получилось, - попытался улыбнуться я.
— Не моя заслуга, - отмахнулся Долонский и замотал головой. – Мне просто повезло. Однажды пришли люди и пригласили меня на работу. Да, вот так просто, выловили меня в коридоре и спросили, не против ли я помогать. Оказалось, что эту болезнь вовсе не пустили на самотёк, что на самом деле небольшая группа врачей уже работала над этим в одном из психоневрологических диспансеров. Тихонько, молча, лишний раз не распространяясь. Тогда думали, что это может быть заразно, но никаких доказательств не было. И вот, казалось бы, я исполнил свою мечту, буду работать с серьёзными людьми, с учёными… а оказалось, что им просто нужна была моя подпись о неразглашении. И очередной мальчик на побегушках, который будет выполнять самую грязную работу.
Я грустно усмехнулся – просто для поддержания общения. Просто сделал понимающий вид, якобы проникся грустной историей. Но, разумеется, в тот момент мои мысли были только об одном – поскорее бы услышать слова о появлении спасительного лекарства.
— Как бы то ни было, - Долонский встрепенулся и хлопнул в ладоши, - я участвовал в исследованиях, имел доступ к записям и результатам, а также имел возможность общаться с больными. Их было немного, всего шесть человек, учитывая тех, кого я уже знал. Но дебюты заболевания и течение различались кардинально. Кто-то сразу потерял контроль над языком и не мог говорить, а кто-то просто не мог взять кружку правой рукой. Такие разные, но при этом такие одинаковые дебюты. Главное отличие – это как скоро пациент потеряет способность общаться. Речью, письмом, жестами. За свою жизнь я повидал разные случаи. Кто-то, будучи уже почти полностью обездвиженным и потерявшим мышление, продолжал издавать какие-то звуки, повторять одни и те же слова…
— Потерявшими мышление? – перебил я Долонского.
— Да, - вздохнул он и отвёл взгляд. – Сначала, как вы сами говорите, устанавливаются запреты на действия. Вы чётко представляете, что хотите сделать и как это сделать. Просто мозг отказывается посылать команду, эта способность стирается подобно файлам на жёстком диске. Стирается окончательно и бесповоротно – человек даже рефлекторно не способен сделать запретное. Вот вы, например, никогда и ни при каких обстоятельствах не сможете повернуть шею в правую сторону, даже если попадёте в страшную аварию и напрочь забудете о запретах. Только насильственный поворот, только воздействие извне. А мышцы, выполняющие это простое действие, уже никогда не смогут это повторить.
— То есть, я уже в любом случае… никогда? – осторожно и испуганно спросил я.
— Следом за запретами идёт угнетение мышления, - Долонский сделал вид, что не услышал мой вопрос. – В том же порядке. Например, если первым запретом была невозможность взять кружку, то и мысль об этом первой покинет мозг. Человек, потерявший способность ходить, будет смотреть на шагающих людей и хмуриться, пытаясь понять, что они делают. И искренне удивится, если сказать, что он раньше тоже так мог. Как вы понимаете, всё это постепенно ведёт к состоянию овоща. Человек обездвижен, не способен общаться и воспринимать информацию, но жизнь поддерживать можно ещё долго. Мозг сам по себе в порядке, но полностью стёрт. Ни воспоминаний, ни мыслей, ни алгоритмов. Будто кто-то удаляет операционную систему с компьютера.
— И что делать? – отчаянно спросил я дрожащим голосом. Всё было понятно, но надежда почему-то всегда остаётся до конца.
— Пойти домой, поцеловать жену, навестить родителей, - голос Долонского стал добрым и нежным. – Купить детям подарки, вкусно поесть, а потом написать завещание. Кто знает, насколько быстро болезнь будет прогрессировать, какие функции вы потеряете следующими.
— Да что это за болезнь такая? – злобно спросил я будто у воздуха, никому не адресуя вопрос.
— Она официально до сих пор не зарегистрирована и не имеет названия. Знаете, больных за эти годы было не так уж много. Достаточно, конечно, но в масштабах города, страны, планеты, - Долонский поморщился, - кому оно надо? Вот если бы это была эпидемия, то этим бы точно занялись. А так… ну помрут несколько человек за несколько лет, ну и ладно. Мы до сих пор ставим всем БАС. Финал примерно одинаковый, а как там оно протекает – кого это волнует? Раньше, когда я работал в той команде, больных переводили в неврологию уже под конец, когда там почти овощ. А когда те, с кем я работал, состарились, умерли или ушли на пенсию, я решил взять дело в свои руки, и вот – добро пожаловать в моё личное заведение.
Очевидно, на моём лице читалась паника. Страх, отчаяние, растерянность… всё самое тяжёлое и злое, грустное и безысходное скопилось вокруг меня и вселилось в глаза, раздражая слизистую и заставляя их блестеть.
— Не забывайте, что мы здесь не просто так, - строго сказал Долонский. – Я каждый день пробую новые способы лечения, и рано или поздно у меня должно получиться. Мне лишь нужна ваша подпись, ваше разрешение на экспериментальное лечение.
Спустя несколько секунд на сером потрескавшемся столе вспыхнул белоснежный лист бумаги с кучей текста. Я тут же черкнул на нём свою подпись, даже не прочитав. Потому что какая уже разница?
— Замечательно, - зашуршал Долонский документом. – И не забывайте, для всех вы больны БАС. Боковым амиотрофическим склерозом. Вы же не хотите пугать родных каким-то новым страшным заболеванием? А БАС – он и есть БАС. Такое случается, ничего не поделать.
— Когда начнём лечение? – надежда на то, что я стану первым исцелившимся, была единственной причиной продолжать жить.
— Первые лекарства я выпишу прямо сейчас, - Долонский скрёб ручкой по очередному листу бумаги.
— Выпишите то, что уже и так есть в аптеках? – огрызнулся я. – Зачем оно мне? Где ваше экспериментальное лечение? Я и сам могу купить всю аптеку и жрать всё подряд.
— Пётр Алексеевич, я не химик и не учёный, пока что. Я не могу создать своё лекарство, я могу только пытаться комбинировать уже существующее. К тому же, мы так и не выяснили механизмы развития болезни. Что случается с организмом перед первым запретом? Если бы мы точно знали, кто в будущем станет нашим пациентом, мы могли бы отслеживать всё, но увы. Если честно, - Долонский с загадочным видом наклонился в мою сторону, - всё это выглядит как нечто сверхъестественное. Я, как врач, не могу так говорить, но и врать вам не буду. Я же обещал. Поэтому старайтесь думать, что это не конец, что это переход в какой-то новый мир, а ваш мозг кто-то успешно переносит на новый носитель. В конце концов, мы так мало знаем о вселенной! Не может же всё это быть бессмысленным!
Перед лицом задрожало несколько бумажек.
— Пётр Алексеевич, мыслите глобальнее! – швырнул Долонский стопку рецептов на стол. – Пусть даже не в этом мире, но всё будет хорошо! Идите домой, отдыхайте. И как только поймёте, что испытываете проблемы с самообслуживанием, сразу же звоните мне. Или пишите, в зависимости от состояния.
Мне некуда было идти, и незачем. Целовать было некого, некому дарить подарки, а навещать родителей… знаете, почему-то этого мне хотелось меньше всего. Зачем напоминать им о своём существовании, о своей любви? Пусть лучше они узнают о моей смерти, будучи максимально отдалёнными.
Жизнь закончилась, как я и думал. Примерно такое и было в моих представлениях о принятии смертельного диагноза. Отсутствие желания что-либо делать и сомнения в том, нужно ли завтра просыпаться, если получится уснуть.
Я не стал покупать лекарства. Как можно было надеяться, что вот эти три таблеточки, проглоченные вместе, вдруг станут тем самым лекарством от неизвестной болезни? Как в такой ситуации вообще можно на что-то надеяться?
И только слова Долонского об иных мирах заставляли верить. Не знаю, во что. Наверное, в то, что это не конец. Наверное, именно так и обретают веру во что угодно.
Состояние стремительно ухудшалось. Всё как и говорил Долонский – всё чаще и чаще отключались абсолютно случайные функции. Я не смог нахмурить лоб, почесать ухо, включить воду на кухне левой рукой (хотя в других местах продолжал без проблем это делать), сжать правую ладонь в кулак… постепенно жизнь становилась всё сложнее. Какие-то слова потихоньку вылетали из речи, но я так редко говорил вслух, что почти не замечал этого. Моя жизнь превратилась в вечный взгляд в монитор, на котором что-то мелькало и двигалось, но что именно, я даже не замечал. Да, первые пару дней я ещё пытался найти в интернете что-то похожее на эту болезнь, но потом просто сдался. Всем и во всём.
Я всё же купил некоторые из таблеток, выписанных Долонским. Те, которые помогают успокоиться и поспать. Хотя и это порой было невыносимо – в сновидениях я по-прежнему был бодр и весел, спокойно делал всё, что разучился делать в реальности, а после пробуждения не сразу в неё возвращался. Секунды спокойствия и уверенности в том, что всё хорошо, сменялись тоннами отчаяния и грусти, когда я вспоминал.
Первый раз рука потянулась к телефону, когда я не смог согнуть колено. Начальная стадия потери подвижности ноги. Казалось бы, обычные шаги – движения, о которых не задумываешься, которые не нужно контролировать, они ведь сами, рефлекторно получаются. Но вдруг правая нога стала словно чужой, и шаги лишились чего-то привычного, но необходимого, из-за чего стали сложными и неуклюжими.
Я перетерпел, переборол себя, продолжил выходить из дома в магазины, нога болталась, как неуправляемый кусок мяса, ещё была способно удержать меня в вертикально положении с помощью тех функций, которые у неё остались.
А однажды, возвращаясь домой, я не смог вставит ключ в замок.
Продолжение>
Читать историю на нашем портале.