Донбасс — главная жертва Путина. Люди, которых никому не жалко
Kashin Plus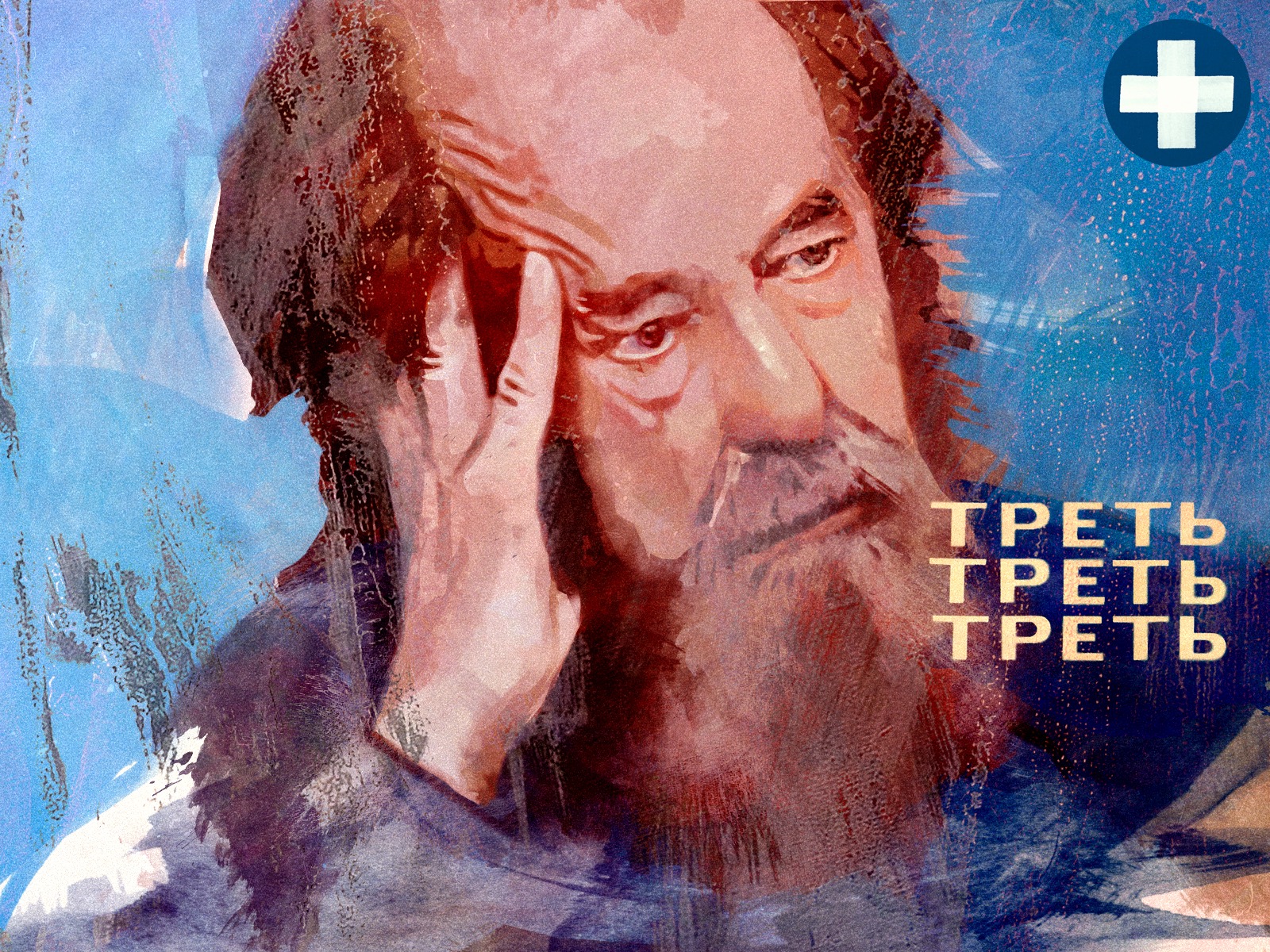
Нельзя сказать, что о жителях Донбасса (а особенно о детях Донбасса) никто не вспоминает и не думает — их образ сопровождает нас всю войну, и о русских людях (а особенно — о детях), нуждающихся в защите и в спасении, каждый день говорят российские официальные лица и медиа, военкоры, непосредственные участники боевых действий, поэты-патриоты, рок-музыканты и патриотические рэперы, чеченские боевики, платные блогеры. Сочувствие жителям Донбасса и особенно детям — оно там, в базовом пакете образов и слов, сопровождающих войну с российской стороны, то есть где-то между «уничтожением нацистов», «сверхточными ударами» и «союзными силами», и как-то привычно уже воспринимается, что если человек говорит о людях Донбасса (и о детях, о детях особенно) — значит, перед тобой какая-то запредельная мразь и людоед, «Марина Ахмедова».
Речь между тем действительно идет о сотнях тысяч людей, находящихся в наиболее нечеловеческих условиях в сравнении с любым другим сообществом по ту или другую линию фронта. Украинцы — объект всемирного сочувствия и поддержки, они беженцы, они получатели помощи, они солдаты, воюющие за правое дело, и каким бы мрачным ни было их настоящее, луч надежды светит им в глаза, не позволяя относиться к жизни как к чему-то беспросветному, даже если дом сгорел, близкие погибли, а ночью снова будет прилет. О россиянах и говорить нечего — дискуссии о «Вкусно и точке» или об отмене культуры создают почти безоблачное впечатление — жизнь, как можно было не раз убедиться за эти пять месяцев, продолжается, видимых поводов думать о плохом почти нет. Где на этой схеме люди Донбасса — да, в общем, нигде, серая зона, пространство под радаром.
Поддавшиеся (вроде бы поддавшиеся, нет ведь точной социологии) коллективному искушению восемь лет назад и проклятые (вроде бы проклятые — на этот счет ведь тоже нет точных данных) за это остальной своей страной, для которой они с давних пор были самым слабым местом национального строительства — советские люди, плохо монтируемые с национальной ценностной системой, они довольно долго, чуть ли не до первого майдана, не испытывали никаких проблем со своей нечеткой идентичностью, да и гораздо существеннее до поры было их экономическое благополучие, позволявшее жить, не оглядываясь даже на Киев, но в какой-то момент это оказалось политтехнологически удобно — вот, есть в стране несколько миллионов таких вот людей, которых можно пугать Бандерой, и которыми можно пугать вестернизированных киевлян и тем более жителей западных регионов; сейчас думаешь — а вот выбери 18 лет назад Кучма себе преемника ну хотя бы из Полтавы, может быть, не пригодились бы те линии разделения, не стали бы Ахметов и прочие играть в это «услышьте голос Донбасса», а майданная публика как-то обошлась бы без плакатиков «не ссы в подъезде, ты же не из Донецка». Но как вышло, так вышло — к 2013 году несогласие с ценностями киевского мейнстрима стало основой региональной идентичности; слова «русский» в этом контексте пока не было. Шахтерский труд, пальма Мерцалова, ахметовский футбольный клуб, терриконовые ландшафты, да даже и мистер Юз, стоявший у истоков — льдинки, из которых Кай складывал слово «вечность», но однажды в пределах видимости его южные соотечественники сложили совсем другое слово из галечных пляжей, Ласточкина гнезда, славы русских моряков — и в сравнении с тем, что было в Киеве, или даже с тем, как выглядел Киев, если смотреть на него непосредственно из Донецка — крымский вариант показался соблазнительным, и никто не сказал, что на самом деле спрятано за бело-сине-красной витриной, и никто не сказал, что крымского счастья даже в теории не может хватить на всех.
Дыхание истории — принято думать, что оно величественное и завораживающее, но на практике — сначала нет ощущения, что все по-настоящему (на стадии захвата донецкой ОГА происходящее вполне укладывалось в понятную картину протестов в городе, причем даже не страшных протестов, не было ни разбитых витрин, ни перевернутых машин, ни даже трупов), но такие вещи ведь и не отследишь, начало АТО и не признанный даже Москвой референдум еще могли проходить по категории политических событий, а дальше — бегут лояльные Киеву обыватели, бегут олигархи, падает сбитый «боинг», рушится в ходе боев новый красивый аэропорт имени Сергея, между прочим, Прокофьева, гибнет в котлах украинская армия, пленка мотается вперед — скорбные колонны на похоронах Моторолы; кто эти люди — украинцы, находящиеся на временно оккупированной территории, орки, с которых совсем не тот спрос, что с людей (людин), или русские, у которых теперь нет и не может быть другого Отечества, кроме России? Вопрос повис в воздухе на восемь лет, и кажется, что адресовать его стоит и Киеву, и Москве — наверное, да, только стоит иметь в виду, что вопросы к Киеву о том периоде — заочные, дистанционные, касающиеся слов и мыслей, а вся практика и вся реальность — в зоне ответственности России, которая, конечно, никакого Крыма там делать и не собиралась, а вот устроила такую резервацию, целью существования которой, помимо банального грабежа все еще богатых местностей, было выяснение отношений с Киевом и Западом, и для такого выяснения как раз и нужен был не благополучный, но сознательно деклассированный и разоренный регион, балансирующий на грани гуманитарной катастрофы, на краешке ада ровно в той мере, чтобы нельзя было отрицать, что кто-то об этих людях все-таки заботится — но вся забота сознательно была сведена лишь к тому, чтобы люди в этих местах не умирали от голода или от эпидемий, ничего больше никто им не давал. Рабский труд — да, нулевые гражданские права — да, чеченского формата тоталитаризм — пожалуйста, но даже несчастные российские паспорта, дающие символический шанс вырваться из резервации — даже их со скрипом и в порядке большого одолжения начали раздавать на пятый или шестой год, ну и дальше — признание республик за три дня до войны, обернувшееся буквальным организованным физическим уничтожением поколения местных молодых мужчин, использованных для затыкания дыр на фронте в качестве невооруженного и незащищенного пушечного мяса; российская власть любит говорить о геноциде применительно к Донбассу, но если есть там что-то близкое к геноциду — это прежде всего безумная утилизационная мобилизация, и когда украинские источники отчитываются о десятках тысяч погибших с российской стороны, не спешите списывать страшные цифры на пропаганду, именно в «союзных силах» с учетом того, что известно о них да даже и от российских военкоров (винтовки Мосина, невыдача касок и бронежилетов), потери и должны быть максимально жуткими — Россией ведь управляют эффективные люди, и если в их распоряжении оказываются вдруг солдаты, которых никто не будет считать и никто не будет жалеть, и которых можно класть тысячами, странно было бы, если бы российская сторона этим не пользовалась.
Донецкий фронт и донецкий тыл свою беду переживают по-разному, но и мобилизованные мужчины, и оставшиеся дома женщины-старики-дети одинаково беззащитны перед лицом того испытания, которое назначило им российское государство, ставшее для них даже не мачехой, а врагом и убийцей. В сочетании с сентиментальной риторикой (и о детях, особенно о детях) преступление Москвы перед людьми Донбасса выглядит максимально чудовищно даже в сравнении с теми вехами, которыми эта война размечена с точки зрения Киева. Восемь лет в заложниках и пять месяцев обреченности, за которой — только вечный мрак. Кто выжил, скажем, в Буче, тому до конца дней принимать сочувственные взгляды и вздохи, рассказывать, вспоминать. На школьный урок в Киеве 2072 года придет старый бучинец, и школьники преклонят перед ним колено. Старый дончанин или луганчанин не придет никуда. Ему, если не погибнет и если войну, что всего вероятнее, закончат вдруг, одномоментно, на существующих линиях разграничения — голодать, ездить на субботники в Мариуполь, смотреть Соловьева по телевизору, спускаться в шахту без требований техники безопасности, а если вдруг каким-нибудь чудом Донецк вновь достанется Украине — станут ли эти люди частью прежнего своего народа, какими глазами Донбасс и украинцы будут смотреть друг на друга? — а если это их личное внутреннее дело, можно и переформулировать вопрос и спросить, какими глазами на Донбасс и его людей будет смотреть Россия, вина которой перед этими людьми всегда будет больше, чем перед украинцами, потому что украинцы, по крайней мере, от России ничего не ждали и в нее не верили, а эти — верили и ждали, получив взамен сначала концлагерь «Изоляция», а потом и массовое убийство под видом мобилизации, и не скажешь уже даже, что кто-то должен услышать голос Донбасса — восемь республиканских лет лишили его голоса, лишили его лица, лишили даже права быть оплаканным. Перспективы отношений России с Украиной более-менее понятны — есть опыт армян и азербайджанцев, есть опыт сербов и хорватов, глухая послевоенная нелюбовь, угрюмые взгляды, бытовые драки — ну, можно себе представить. Чего представить нельзя и чему нет примеров — какими могут быть отношения между большой страной и теми ее жертвами, которых она губила, заверяя их в своей любви и сочувствии.
Этот текст опубликован в платном телеграм-канале «Кашин Плюс». Если он попал к вам через третьи руки, есть смысл подумать о том, чтобы подписаться — труд автора стоит денег. Ссылка для подписки: https://t.me/+vFCmz__LK6UwMzg0 Спасибо!