"БРАТСКИЙ ВЕСТНИК"
ЖУРНАЛ "БРАТСКИЙ ВЕСТНИК"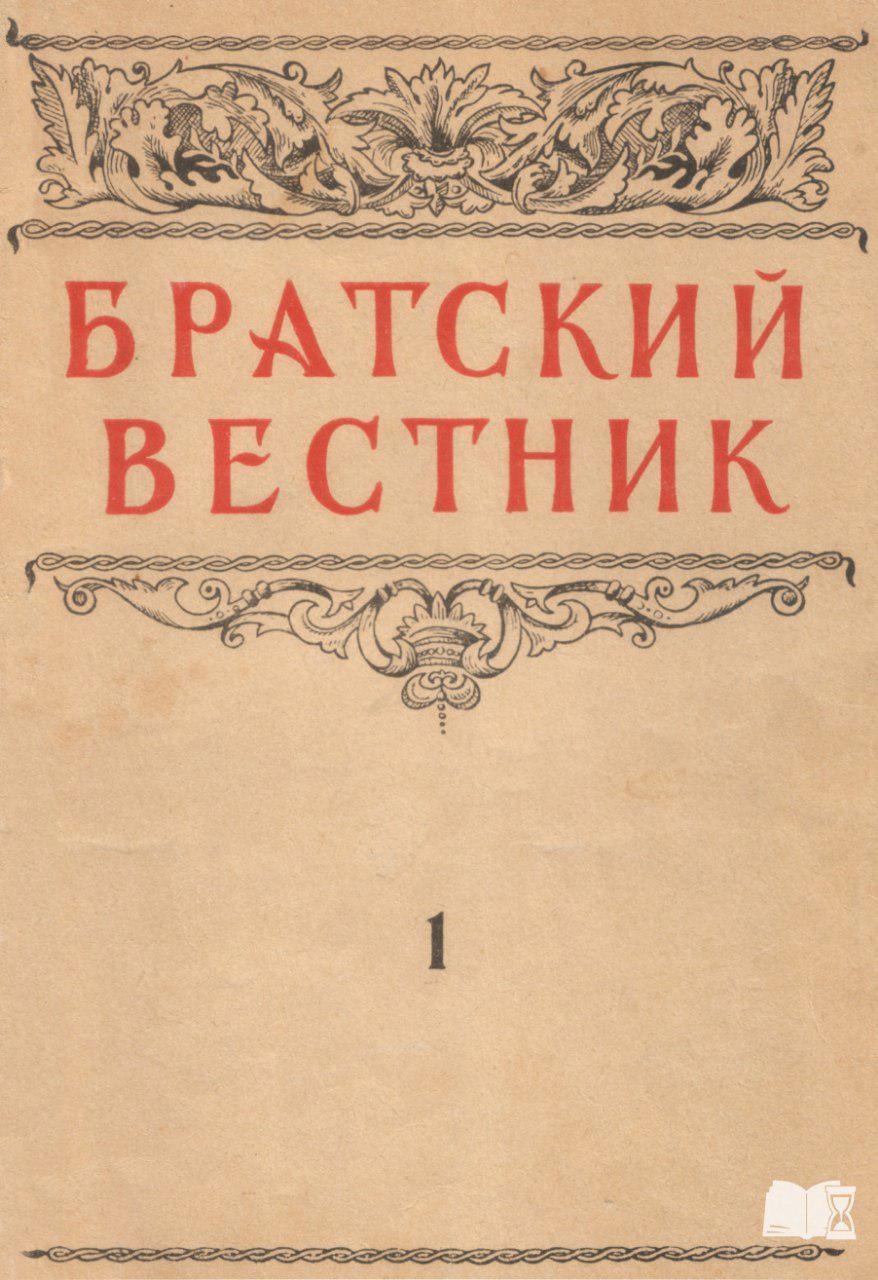
...⇓...
Второе благовестническое путешествие Апостола Павла (часть 2)
Продолжение...
Начало читать здесь.
Павел, сопровождаемый верными верийцами, отплыл на корабле в Афины. Выходя на берег, Павел, без сомнения, не испытывал того почтительного сыновнего чувства, какое в то время испытывали образованные люди, вступая на эту славную землю. Он был из другого мира, и его святая земля была в иных краях.
По-видимому, во время ли самого переезда или уже по прибытии в Афины, только Павел начал жалеть, что оставил своих спутников в Македонии. Быть может, в новом мире, на каждом шагу дивившем его, он чувствовал себя чересчур одиноким. Как бы то ни было, отправляя своих провожатых обратно в Верию, он наказал им, передать Силе и Тимофею, чтобы они как можно скорее приехали к нему в Афины (Деян. 17, 15).
Итак, несколько дней Павел провел в полном одиночестве. Этого с ним уже очень давно не бывало; он никогда не путешествовал иначе, как в сопровождении двух-трех учеников. Афины представляли собой нечто единственное в мире и, во всяком случае, совершенно не похожее на все, виденное Павлом дотоле; поэтому Апостол чувствовал себя крайне смущенным. В ожидании своих спутников Павел ходил по городу. Акрополь с бесконечным множеством статуй, покрывавших его, делая его единственным в своем роде музеем, в особенности должен был вызвать в нем самые оригинальные мысли.
Афины, хотя и много пострадали от Суллы, хотя и были, подобно всей Греции, ограблены римскими правителями и частью опустошены грубой алчностью своих новых владык, все же сохранили еще почти все шедевры, составлявшие украшение этого города. Памятники Акрополя остались нетронутыми. Несколько неудачных добавлений в подробностях и довольно большое количество посредственных произведений, успевших проскользнуть в сокровищницу великого искусства, дерзкая замена древнегреческих статуй на некоторых пьедесталах римскими не умалили красоты этого чистейшего храма красоты. Пристрастие римлян к домам с колоннадами еще не проникло сюда. Этот прелестный, неправильно расположённый город с узкими улицами ревниво оберегал свои древние памятники. Павел возмутился духом при виде этого города, «полного идолов».
Из многого, не понятого Апостолом, две вещи особенно поразили его внимание прежде всего: религиозность афинян, проявлявшаяся в огромном количестве храмов, жертвенников и всякого рода святилищ, — признак их полного терпимости эклектизма в религии; затем — несколько алтарей, посвященных «неведомым богам». Таких алтарей было довольно много в самом городе и его окрестностях. Встречались они и в других городах Греции. Между ними были даже прославленные — в Фалерском порту (Павел мог видеть их, высаживаясь на берег), — связываемые с легендами о троянской войне. На них стояла надпись: «Неведомым богам»; на некоторых, быть может, даже: «Неведомому богу». Алтари эти были обязаны своим существованием крайней щепетильности афинян во всем, что касалось религии, и привычке их видеть в каждом предмете проявление особой таинственной силы. Боясь помимо воли своей оскорбить неуважением какое-нибудь божество, неведомое им и, быть может, могущественное, или же домогаясь милости, которая могла зависеть от какого-нибудь незнакомого им божества, они воздвигали алтари совсем без надписей или с вышеуказанными надписями. В этом «неведомом» боге Павел увидел единого живого Бога, к Которому само язычество питает какое-то таинственное влечение.
Население этого города было живое, любознательное, остроумное. Каждый проводил жизнь на воздухе, в постоянном общении с остальным миром, в атмосфере, где дышалось легко под улыбающимся небом. Обилие иностранцев, жаждавших знания, поддерживало кипучую умственную деятельность. Гласность, заменявшая журнализм античному миру, опять-таки сосредоточивалась в Афинах. Торговля не привилась в этом городе, и у его жителей только и было заботы, что узнавать новости, быть в курсе всего, что говорилось и делалось на всем земном шаре (Деян. 17, 21).
Для Павла это было совершенно новое поле деятельности. До сих пор он проповедовал по большей части в промышленных городах с обширными еврейскими кварталами, а не в блестящих центрах высшего света и высшей культуры. Афины были глубоко языческим городом; язычество было связано в них со всеми интересами и удовольствиями, со всем, чем славился город. Павел долго колебался. Наконец прибыл из Македонии Тимофей; Сила по неизвестным причинам приехать не мог. Тогда Павел решил начать действовать.
В Афинах была синагога, Павел проповедовал в ней для Иудеев и людей, «чтущих Бога» (Деян. 17, 17), но его манило другое — блестящая «агора», где расточалось столько ума, портик Пецилл, где обсуждались все мировые вопросы. Он говорил и там. Слова: «Иисус и воскресение» звучали для афинян странно. Эпикурейские философы и стоики, однако, слушали его со вниманием. Это было первое соприкосновение христианства с греческой философией.
Либеральный дух, царивший в Афинах, обеспечивал Павлу полную безопасность. Ни Иудеи, ни язычники ничего не предпринимали против него, но эта терпимость была хуже гнева. В других местах общество, по крайней мере еврейское, живо реагировало на новое учение; здесь оно встречало только любопытство или равнодушие. В один прекрасный день слушатели Павла, желая добиться от него, так сказать, официального изложения его доктрины, привели его в Ареопаг и там потребовали от него, чтобы он объяснил, какую религию он проповедует. Ареопаг из всех афинских учреждений всегда был самым аристократическим. Это был верховный совет религиозной и нравственной цензуры, ведавшей всем относящимся к законам, нравам, медицине, роскоши, надзору за порядком и благочинием, религиями, исповедуемыми в городе, и нет ничего удивительного в том, что, когда в город занесено было новое учение, проповедника пригласили изложить его перед этим трибуналом или по крайней мере в том месте, где он заседал. Павел, став посреди собрания, сказал следующее: «Афиняне, по всему вижу, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «Неведомому Богу». Сего то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас; ибо мы Им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «Мы Его и род».
Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых...»
На этом слове речь Павла была прервана. Услыхав о воскресении мертвых, одни стали насмехаться; другие, более вежливые, говорили: «Об этом мы послушаем тебя в другое время».
В обществе, столь отличном от того, где он жил раньше, в кругу риторов и профессоров фехтования, Павел чувствовал себя чужим. Он беспрестанно уносился мыслью к дорогим его сердцу македонским и галатийским церквам, где он встретил такую искреннюю религиозность. Не раз он подумывал вернуться в Фессалонику, куда его влекло горячее желание; к тому же пришла весть, что вера юной церкви подвергается большим испытаниям, и Павел боялся, как бы новообращенные не поддались искушению. Он послал Тимофея в Фессалонику, чтобы укрепить, наставить и утешить верующих, и опять остался один в Афинах.
Он продолжал работать, но почва была слишком неблагодарная.
В Афинах ему не удалось организовать сколько-нибудь значительной церкви. Уверовало лишь несколько человек, в том числе некий Дионисий, как думают, заседавший в Ареопаге (Деян. 17, 34), и женщина по имени Дамарь. За все время апостольства Павла это была его почти единственная неудача.
Сев на корабль в Фалере или Пирее, Павел высадился в Кенхреях, служивших гаванью для Коринфа на Эгейском море. Это был маленький порт, в глубине Саровского залива, окруженный зеленеющими холмами и сосновым лесом. Красивая, открытая долина ведет от этого порта к большому городу, построенному у подножия огромного куполообразного холма, с вершины которого видны оба моря.
Коринф представлял собою гораздо лучше подготовленную почву к принятию семян новой веры. Он был городом многолюдным, богатым, блестящим, привлекавшим много иностранцев, средоточием кипучей торговли, — словом, одним из тех городов со смешанным населением, которых никто не звал отечеством. Господствующая черта, благодаря которой имя Коринфа вошло в пословицу, была необычайная развращенность нравов этого города. Наплыв моряков через оба порта сделал из Коринфа последний приют культа Венеры Всенародной — остатка древнефиникийских учреждений. При обширном храме Венеры жило больше тысячи куртизанок, и весь город представлял собой как бы огромный публичный дом, куда стекалось множество иностранцев, в особенности, моряков, безумно швырявших деньгами.
В Коринфе была еврейская колония, по всей вероятности, осевшая в Кенхреях — том из двух портов, который вел торговлю с Востоком. Незадолго до прибытия Павла здесь высадилась кучка Евреев, изгнанных из Рима по указу Клавдия, в том числе супруги Акила и Прискилла, по-видимому, в то время уже исповедовавшие христианскую веру (Деян. 18, 2). Все это, вместе взятое, давало чрезвычайно благоприятное стечение обстоятельств. Вместе с Антиохией, Ефесом, Фессалоникой, Римом Коринфу суждено было стать перворазрядным епархиальным городом. Но, одновременно с этим, царившая в нем безнравственность позволяла предугадывать, что здесь же будут совершены и первые в истории церкви злоупотребления.
Павел скоро увидел, что в Коринфе ему придется пробыть долго, и решил основаться здесь, занявшись своим ремеслом — деланием палаток. А так как Акила и Прискилла занимались тем же ремеслом, Апостол поселился вместе с ними.
Вскоре к нему вновь присоединился Тимофей, посланный им из Афин в Фессалонику. Он привез отличные вести. Все обращенные преуспевали в вере и благочестии, не смущаясь насмешками и преследованиями со стороны своих сограждан. Их благотворное влияние распространилось на всю Македонию. Сила, с которым Павел не видался со времени своего ухода из Верии, по всей вероятности, присоединился к Тимофею и вместе с ним вернулся к Павлу. Как бы то ни было, все трое сошлись опять в Коринфе и прожили здесь долгое время.
С своею проповедью Павел, по обыкновению, прежде всего обратился к Евреям. По субботам он проповедовал в синагоге, встречая самое разнообразное отношение. Одно семейство — Стефана — уверовало и было крещено Павлом. Правоверные Иудеи горячо протестовали против этого; дело дошло до оскорблений и проклятий и завершилось открытым разрывом. Павел отряхнул на неверных прах от одежд своих, сложив на них ответственность за последствия, и объявил, что, раз они глухи к слову истины, он перейдет к язычникам. С этими словами он вышел из синагоги и с тех пор проповедовал желающим в доме некоего Тита Иуста, богобоязненного человека, жившего в доме, смежном с синагогой. Крисп, глава еврейской общины, перешел на сторону Павла, обратился ко Христу вместе со всем своим домом, и Павел сам крестил его, что он делал очень редко (1 Кор. 1, 14-16).
Крестились и многие другие, в том числе и Евреи, и язычники, и просто «чтущие Бога». Число обращенных в Коринфе язычников, по-видимому, было сравнительно очень велико. Павел проявил здесь необычайное усердие, укрепляемый видениями Господа, являвшегося ему в ночи. Надо заметить, что вести об успехе его благовестничества и многочисленных обращениях в Фессалонике опередили его в Коринфе и заранее расположили в его пользу набожных обывателей. Люди здесь были не так невинны и чисты душой, как в Филиппах или Фессалонике. Развращенность нравов переступала иной раз и порог церкви; по крайней мере не все, входившие туда, были одинаково чисты. Зато коринфская церковь была одной из самых многолюдных по составу; она разливала вокруг себя свет истины по всей Ахаии и сделалась рассадником христианства для всего греческого полуострова. Не говоря уже об Акиле и Прискилле, и вышеназванных Тите, Иусте, Криспе и Стефане, церковь насчитывала в лоне своем Гаия, также крещенного самим Павлом и приютившего у себя Апостола во время второго пребывания этого последнего в Коринфе, — затем Кварта, Ахаика, Фортуната, Ераста, человека влиятельного и городского казначея, а также почтенную Хлою, госпожу многочисленного дома. Наиболее влиятельную и авторитетную группу составляли Стефан и его домашние. Но, в общем, все обращенные, за исключением разве Ераста, были люди простые, малообразованные и невысокого общественного положения (1 Кор. 1, 26).
В Кенхрейском порту была своя особая церковь. Местность эта была населена, главным образом, пришельцами с Востока; здесь поклонялись Изиде и Эшмуну, не забывая и Венеры Финикийской. Кенхры были не столько городом, сколько скопищем лавок и гостиниц для матросов. Среди развращенности, царившей в этом притоне моряков, христианство сотворило чудо. В Кенхрах появилась удивительная диакониса, которой, как мы увидим далее, предстояло сокрыть под складками своей одежды все будущее христианской теологии, — произведение, которое должно было урегулировать веру вселенной. Она звалась Фебой; это была деятельная, подвижная женщина, всегда готовая оказать услугу, и очень ценная сотрудница для Павла.
В Коринфе Павел провел восемнадцать месяцев. Взоры его долго покоились на прекрасной скале Акрокоринфа, на снежных вершинах Парнаса и Геликона. В этой новой общине Павел приобрел себе многих преданных друзей, но он не мог оторваться душой от Фессалоники, забыть о простом и сердечном отношении к нему тамошних жителей и о горячих привязанностях, которые он там оставил. В своих проповедях он постоянно вспоминал о фессалоникийской церкви и всем ставил ее за образец для подражания. Не мог он забыть и о филиппийской церкви, с ее обилием благочестивых женщин, с богатой и щедрой лидиянкой.
Трудно было, однако, рассчитывать, чтобы негодование правоверных Иудеев, всегда активное, не вызвало и здесь какой-нибудь бури. Проповедь язычникам и широта взглядов Апостола касательно включения всех верующих в семью Авраама страшно возмущали сторонников особых привилегий сынов Израиля. Апостол, со своей стороны, не скупился для них на жесткие слова. Евреи наконец пожаловались римским властям. Коринф был столицей Ахайской провинции, охватывавшей всю Грецию и обыкновенно объединяемой в одно целое с Македонией. Обе провинции были объявлены Клавдием сенатскими и, как таковые, управлялись проконсулом. В эпоху, о которой мы говорим, должность эту занимал один из самых милых и образованных людей того века — Марк Анней Новат, старший брат Сенеки, принявший имя Галлиона. Это был человек блестящего ума и высокой души, друг знаменитых поэтов и писателей. По-видимому, именно эта блестящая еллинская образованность побудила ученого Клавдия избрать его для управления провинцией, которую все сколько-нибудь просвещенные правительства окружали утонченным вниманием. Расстроенное здоровье заставило его покинуть этот пост. Подобно своему брату, он удостоился чести при Нероне искупить смертью свою честность и свои высокие душевные качества. Такой человек не был склонен слушать жалобы фанатиков, обращающихся к светской власти, которой они в душе не признают, с просьбой избавить их от их врагов. Однажды Сосфен, новый начальник синагоги, занявший место Криспа, привел Павла на суд к проконсулу, обвиняя его в том, что он проповедует вероучение, идущее вразрез с законом. Действительно, иудейство, издревле разрешенное и пользовавшееся всевозможными гарантиями, лишало этих гарантий и вольностей всякую диссидентскую секту, отколовшуюся от синагоги. Павел хотел было возражать, но Галлион остановил его и, обратившись к евреям, сказал: «Иудеи! Если бы дело шло о каком-нибудь преступлении, я бы выслушал вас, как полагается, но раз идет спор об учении, и об именах, и о законе вашем, разбирайтесь сами. В этом деле я вам не судья». После такого ответа Галлион велел прогнать обе стороны.
Впрочем, Апостолу пришлось бороться не только с этими затруднениями. Во время благовестничества в Коринфе на пути его впервые встали препятствия, исходящие из лона самой церкви, от непокорных людей, которые вторглись туда и оказывали сопротивление, или же от Иудеев, которых влекло к Иисусу, но которые не решались, как Павел, совершенно отказаться от исполнения Закона. Апостол часто вспоминал о дорогих его сердцу македонских церквах, о безграничной покорности, чистоте нравов, искренней сердечности верующих в Филиппах и Фессалонике, где он пережил столько отрадных часов. Его тянуло повидаться с обращенными на Севере, и когда от них приходили письма с выражением того же желания, он едва сдерживался, чтобы не покинуть Коринфа.
В Коринфе апостольская деятельность Павла достигла своего высшего предела. К заботам о великой христианской семье, которую он старался основать, присоединились заботы об общинах, оставленных им позади. Ревность о Боге снедала его. В этот период он не столько думал об основании новых церквей, сколько о неусыпном надзоре над уже основанными. Каждая из этих церквей была для него как бы невестой, которую он обещал Христу и которую он хотел сохранить непорочной.
Тимофей, которого он посылал навещать далекие церкви, при всей своей неутомимости не мог бы удовлетворить беспредельному рвению своего учителя. И вот тут-то у Павла явилась мысль восполнить перепиской то, чего он не имел возможности сделать лично или же через своих любимых учеников. В римской империи не существовало ничего подобного нашей пересылке по почте частных писем; послать письмо можно было только с оказией или же с нарочным. И Павел усвоил себе привычку повсюду брать с собою учеников, служивших ему гонцами. Переписка между синагогами уже вошла в обычай у Евреев; при каждой синагоге даже имелся специально для доставки писем особый штатный служащий. Эпистолярный жанр даже составлял у Евреев особый вид литературы, процветавший до середины средних веков, как следствие их рассеяния. Без сомнения, как только христианство распространилось по всей Сирии, появились и христианские послания, но в руках Павла эти послания, до тех пор по большей части не сохранявшиеся, стали, наравне со словом его, оружием распространения христианства. Авторитет этих посланий почитался равным авторитету самого Апостола, каждое из них обязательно прочитывалось в присутствии всей собравшейся церкви, были даже циркулярные послания, последовательно пересылавшиеся нескольким церквам. Чтение таких посланий сделалось существенной составной частью воскресного богослужения. При этом каждое послание служило для назидания и утверждения в вере не только в момент своего получения; оно хранилось в архивах церкви и в дни собраний извлекалось оттуда для прочтения в качестве священного и всегда назидательного документа. Таким образом, послание стало первоначальной формой христианской литературы, превосходной, вполне приспособленной к условиям времени.
Действительно, условия жизни первых христиан отнюдь не допускали появления книг в известной последовательности и связи. Нарождающееся христианство совершенно не имело текстов. Даже церковные песни сочинялись каждым желающим и не записывались. Священные книги христиан — так называемое Писание — были Книги Ветхого Завета; Иисус не прибавил к ним ни одной новой книги; Ему надлежало прийти, чтобы исполнить сказанное о Нем в Писании и положить начало новому веку, для которого Он Сам был бы живой книгой. При таком положении самое большое, что можно было написать, — это письмо со словами утешения и ободрения. Правда, уже и в ту эпоху, о которой идет речь, среди христиан обращались маленькие книжечки, предназначенные напоминать забывчивым «о словах и делах» Иисуса; но эти книжечки имели совершенно частный характер.
Павел, с своей стороны, отнюдь не имел склонности к составлению книг. Наоборот, переписка, столь неприятная писателям, привыкшим художественно излагать свои мысли, вполне отвечала его кипучей деятельной натуре. Тимофей скоро научился исполнять при Апостоле обязанности секретаря.
Даже в тех случаях, когда Павел лично с кем-нибудь переписывался, он писал не своей рукой, а диктовал. Нет сомнения, что Павел вел обширную переписку, и то, что нам осталось от нее, составляет лишь малую часть ее.
От периода второго благовестничества нам осталось только два послания — оба к фессалоникийской церкви, оба писанные Павлом из Коринфа, причем в обращении он поставил, наряду со своим именем, имена Силы и Тимофея. Написаны они были, должно быть, одно вслед за другим, через небольшой промежуток времени. Оба полны умиленной нежности, трогательного очарования. Апостол не скрывает здесь своего предпочтения к македонским церквам. Любовь свою он изливает в самых ярких выражениях, в самых ласкающих фразах: он сравнивает себя с кормилицей, нежно отогревающей у себя на груди своих питомцев, с отцом, бодрствующим над своими детьми. И на самом деле, Павел был всем этим для основанных им церквей. Он был превосходным миссионером, но еще лучшим — духовным руководителем. Никто не чувствовал так осязательно, что на нем лежит забота о душах других людей; никто не принимал так горячо и близко к сердцу задачи воспитания человека.
Дух братства этих первых христианских церквей представлял собой такое зрелище, какого теперь не видно более людям. Все это было добровольное, без принуждения, а между тем эти маленькие братские союзы были прочны, как сталь. Они не только стойко выдерживали постоянные гонения извне, но и поражали стойкостью своей внутренней организации. У этих церквей была своя иерархия; старейшие по возрасту члены, наиболее деятельные, имевшие личные сношения с Апостолом, пользовались особым почетом.
«Старейшины» (пресвитеры) иногда избирались голосованием, то есть поднятием рук, иногда рукополагались самим Апостолом, но и в том и в другом случае считались как бы избранными Духом Святым, то есть по тому наитию свыше, которое руководило церковью во всех ее поступках и действиях.
Церкви в полном сборе принадлежала вся полнота власти, простиравшейся даже на самые интимные стороны частной жизни. Собравшаяся церковь или по крайней мере так называемые «духовные» увещевали заблудших, утешали малодушных, вообще исполняли обязанности умелых руководителей, искусившихся в познании сердца человеческого. Все смиренно подчинялись решениям церкви. Уличенный в дурном поведении, в несоблюдении заветов Апостола или же в неповиновении его посланиям попадал на замечание; от него сторонились, избегали всяких сношений с ним, с ним поступали как с врагом, но предупреждали его как брата. Он начинал стыдиться этой отчужденности и возвращался на путь истинный. В этих маленьких кружках добрых людей, живших вместе в тесном общении, царила великая радость.
К язычеству питали глубокое отвращение, но в обхождении с язычниками обнаруживали большую терпимость. Их не только не избегали, но, напротив, старались привлечь. Многие из верующих сами в былое время поклонялись идолам или же имели родителей идолопоклонников и знали, как иногда искренне можно заблуждаться. Они вспоминали своих предков, честных людей, умерших, не познав истины, дающей спасение.
Милосердие, братская любовь были высшим законом, общим для всех церквей. Милосердие и целомудрие были, по преимуществу, христианскими добродетелями, создавшими успех нового учения и обратившими мир. Повелевалось делать добро всем, отдавая, однако, предпочтение единоверцам, как наиболее достойным. Трудолюбие также почиталось добродетелью. Павел, сам хороший работник, строго осуждал праздность и лень, часто повторяя народную поговорку: «Кто не работает, тот и не ешь». В его глазах образцовым храстианином был мирный ремесленник, скромный, трудолюбивый, со спокойным сердцем вкушающий заработанный им кусок хлеба. Для Павла церковь — это союз добросовестных работников, довольных, не завидующих богачам, потому что они счастливее их: они знают, что Бог судит не так, как светские люди, и предпочитает честную мозолистую руку белой руке интригана. Наряду с этим Павел сурово порицает других членов церкви, о которых он слышал, что они «не работают, поступают бесчинно и суетятся».
Из этих неоценимых документов нам бьет в глаза еще и другое, объясняющее неслыханный успех проповеди христианства, — это дух самоотвержения, высокой нравственности, царивший в этих маленьких церквах. Их представляешь себе вроде собраний моравских братьев или протестантов-пиетистов, насквозь пропитанных набожностью. На каждое дело, на каждую трапезу они призывали благословение Божие и заканчивали благодарственной молитвой.
Церковь была неиссякающим источником поучения и утешения. На собрании все сидели, говорил каждый желающий, когда чувствовал вдохновение. Получивший откровение вставал и, по наитию свыше, произносил разные речи, форму которых нам теперь трудно с точностью установить: псалмы, гимны, славословия, догматические толкования, пророчества, откровения, поучения, увещания, утешения. Все взаимно приглашали к ним один другого, каждый подстрекал энтузиазм соседей; это называлось «воспевать Господу». После каждого такого импровизированного славословия или молитвы люди откликались вдохновенным словом: «Аминь».
Огромное нравственное воздействие оказывала священная «трапеза Господня», вечеря любви, рассматриваемая, как мистический акт, посредством которого все участники трапезы приобщались Христу и тем становились все как бы одним телом. Это был непрерывный урок равенства и братства. У всех были свежи в памяти священные слова, произнесенные на последней вечере Иисуса. И вкушавшие как бы вкушали Иисуса, неизъяснимой тайной сливаясь с Ним и между собою. Обыкновенно мужчины давали целование мужчинам, а женщины женщинам.
Первая иерусалимская церковь преломляла хлеб ежедневно. Лет двадцать-тридцать спустя вечеря совершалась уже не более одного раза в неделю, по вечерам и, согласно еврейскому обычаю, при свете многих светильников. Совершалась она в особо для того назначенный день, следующий после субботы и первый день недели, который звали «днем Господним», в память воскресения Христова. В этот же день собиралась милостыня и производились всякие сборы. От дня Господня различали субботу, которую христиане, по всей вероятности, все еще соблюдали, хотя не одинаково тщательно. Но чем дальше, тем сильнее обнаруживалась тенденция слить воедино день отдыха с днем Господним, и можно предполагать, что в церквах, состоявших из обращенных язычников, не имевших основания предпочитать субботу, такое слияние уже совершилось.
Совместная трапеза также постепенно приняла чисто символическую форму. Вначале это был настоящий ужин — вечеря, где каждый ел, сколько хотел, лишь мысленно придавая этому акту высокое мистическое значение. Вечеря эта начиналась молитвой. Каждый приносил что-нибудь и ел свое. За ужином царили скромность, трезвость. Садились за стол, имевший форму полукруга, старейший занимал место посредине.
Имя, которым вначале окрестили эти евхаристические трапезы, чудесно выражало все божественное значение этого прекрасного обряда. Они звались «агапе», то есть дружба, милосердие.
Годовыми праздниками по-прежнему оставались праздники еврейские, в особенности Пасха и Пятидесятница. Христианская Пасха праздновалась в один день с еврейской. Однако по той же причине, которая заставила перенести еженедельный день отдыха с субботы на воскресенье, представлялось желательным и Пасху связать не с еврейскими воспоминаниями и обычаем, но с памятью страданий, смерти и воскресения Христова. Возможно, что перенесение это в греческой и македонской церквах совершилось еще при жизни Павла. Как бы то ни было, смысл этого главного христианского праздника подвергся коренному изменению. Истинная Пасха отныне — Иисус, закланный за всех.
📖 Р. К.