"БРАТСКИЙ ВЕСТНИК"
ЖУРНАЛ "БРАТСКИЙ ВЕСТНИК"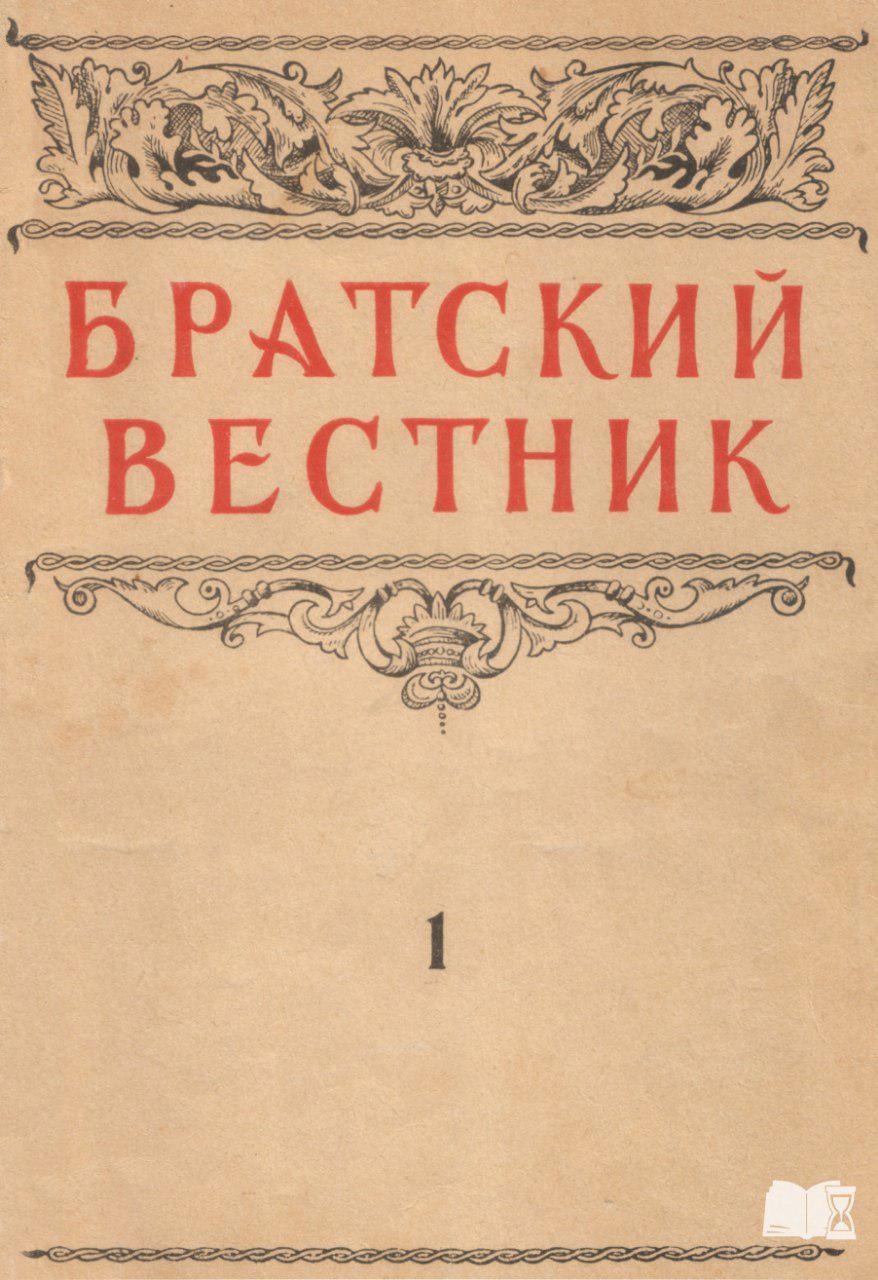
...⇓...
Второе благовестническое путешествие Апостола Павла (часть 1)
Вернувшись в Антиохию, Павел начал строить новые планы. Пылкая душа его не выносила покоя. С одной стороны, он стремился к расширению довольно узкого поприща своего первого благовестничества; с другой, его не покидало желание вновь посетить милые его сердцу галатийские церкви, чтобы утвердить их в вере.
Вместо Варнавы Павел взял в спутники Силу, пророка Иерусалимской церкви, оставшегося в Антиохии. Сила, как говорят, имел звание римского гражданина (Деян. 16, 37-38). Его имя Силуана заставляет думать, что он был родом не из Иудеи или что еще раньше он имел случай близко ознакомиться с языческим миром. На прощанье братья помолились о них, поручая их благодати Божией.
Павел и Сила путешествовали сухопутным путем. Повернув на север через Антиохийскую равнину, они прошли через ущелье Амана, «Сирийские ворота»; затем, обогнув залив Исса, перевалили через северный отрог Амана, пройдя сквозь «Аманские ворота»; прошли насквозь Киликию, быть может, заглянули в Тарс и перевалили через Тавр, причем не могли, конечно, миновать знаменитых «Киликийских ворот», одного из опаснейших в мире горных проходов. Таким образом, они проникли в Ликаонию, достигнув Дервии, Листры и Иконии.
Павел нашел дорогие его сердцу церкви в том же виде, в каком и оставил их. Верующие трудились усердно; количество их возросло. Тимофей, бывший еще подростком во время первого путешествия Павла, за это время сделался чудесным юношей. Его молодость, вера, ум понравились Павлу. Все верующие в Ликаонии были о нем наилучшего мнения. Павел взял его к себе и нашел в нем усердного сотрудника (Деян. 16, 1, 3; 1 Кор. 4, 17; 16, 10-11; Фил. 1, 1; 2, 19-22; 1 Тим. 1, 2; II Тим. 1, 2; 3, 10-11), можно сказать, даже сына (как говорил о нем сам Павел). Его самоотверженность делала его наиболее пригодным для Павла помощником. Сам Павел говорит, что у него никогда не было ученика, «равно усердного» и более пришедшегося ему по сердцу (Фил. 2, 20). Беря с собой Тимофея, Павел предвидел серьезные затруднения. Он опасался, как бы в сношениях с Иудеями ему не повредило то обстоятельство, что он не был обрезан, тем более что всем было известно его языческое происхождение. Это могло оттолкнуть от него и вообще наделать хлопот; люди боязливые могли не захотеть знаться с ним; ссоры, едва улегшиеся после Иерусалимского свидания, могли вспыхнуть с новой силой. Павел помнил, сколько неприятностей было у него из-за Тита, и решил предупредить их. Чтобы потом не оказаться вынужденным сделать уступку принципам, которые он отвергал, он заблаговременно обрезал Тимофея. Его нельзя было заставить сказать, что обрезание необходимо для спасения; в его глазах это было бы изменой вере. Но так как обрезание само по себе не представляло ничего дурного, то, полагал он, можно и обрезываться во избежание споров и расколов. Он поставил себе за правило, что Апостол должен быть всем для всех и приспособляться к предрассудкам тех, кого он хочет убедить, если предрассудки эти сами по себе не важны и не представляют ничего, безусловно достойного осуждения.
Из Иконии Павел, по всей вероятности, двинулся в Антиохию Писидийскую, закончив, таким образом, обход главных церквей Галатии, основанных им во время первого путешествия. У него явилась мысль обойти западную часть Малой Азии, иначе говоря, Асийскую провинцию — наиболее людную и населенную часть Малой Азии. Столицей этой провинции был Ефес; там же находились цветущие красивые города — Смирна, Пергам, Магнезия, Фиатир, Сарды, Филадельфия, Колоссы, Лаодикея, Гиераполис, Траллы, Милет, которым вскоре суждено было стать центрами распространения христианства. «Дух Святой, — говорит автор Деяний, — не допустил его идти проповедовать в Асию».
Покинув Антиохию Писидийскую, Павел и его спутники, вместо того чтобы идти в богатые и цветущие провинции на юго-западе Малой Азии, все больше углублялись в центральную часть полуострова, состоявшую из провинций гораздо менее известных и менее цивилизованных. Они прошли Фригию и достигли окраины Мисии (Деян. 16, 6-7). Они прошли из конца в конец всю Мисию и прибыли в Александрию Троадскую — большой порт, лежавший почти напротив Тенедоса, невдалеке от развалин древней Трои. Таким образом, трое вестников Христа прошли по стране малоизвестной и, за отсутствием европейских синагог и римских колоний, не представлявшей даже и тех облегчений пути, какие они имели раньше.
Путь был тяжел и мрачен, в особенности в некоторых местах, диких и почти лишенных растительности. Иные местности, наоборот, были свежи и зелены. Страна эта как бы делится на две части, причем и в смысле природы, и в отношении расового состава населения, резко разграничивающей линией является устье реки Оронта. Малая Азия внешним своим обликом и красками пейзажа напоминает Италию или юг Франции. Европеец не чувствует себя здесь заброшенным в чужую, далекую страну. Здесь масса воды; города словно тонут в ней; некоторые места, как, например, Нимфи или Магнезия Сипильская, — настоящие райские уголки. Уступы гор, почти со всех сторон закрывающих горизонт, представляют собою бесконечное разнообразие форм, порою причудливую игру их; если бы художник вздумал передать эти очертания на полотне, ему никто не поверил бы, что он их не выдумал, а взял из действительности: вершины — зубчатые, как пила; разорванные, изрезанные склоны; странные конусы и отвесные стены с остроконечными пиками, являющие взору всю красоту и блеск обнаженных камней. Благодаря такому множеству гор воды здесь проточные, быстрые. Длинные ряды тополей, маленькие платановые рощи, в широких ложах пересыхающих летом потоков, великолепные кущи деревьев, купающих свои корни в источниках и темными купами ползущих от подножья каждой горы к вершине, — все это радует, веселит взор путешественника. У каждого ручья караван останавливается, чтобы напиться. Шагать изо дня в день по этим узким античным мостовым, которые за все эти века перевидели столько самого разнообразного люда, бывает иной раз утомительно; зато привалы очаровательны. Отдохнешь часок, съешь кусок хлеба на берегу прозрачного ручейка, бегущего по кремнистому ложу, — и опять надолго бодр и силен.
В Троаде Павел, по-видимому, не имевший вполне выработанного плана для этой части своего путешествия, снова впал в сомнение касательно выбора дальнейшего пути. Македония, казалось ему, сулила обильную жатву. По-видимому, его убедил один македонянин, с которым он встретился в Троаде. Это был врач, необрезанный прозелит из язычников по имени Лукан, или Лука. Латинское имя наводит на мысль, что новый ученик был родом из римской колонии в Филиппах; однако его познания по морской географии и мореплаванию скорее заставляют думать, что он был уроженцем Неаполиса. Порты и все побережье Средиземного моря были ему, по-видимому, очень близко знакомы.
Человек этот, которому суждено было сыграть такую крупную роль в истории христианства, — так как он сделался впоследствии историком первых дней христианства, — получил довольно тщательное образование в иудейском и эллинском духе. Он был кроткий, миролюбивый, с нежной, чувствительной душой, по натуре скромный и несклонный выдвигаться на первое место. Павел очень любил его; Лука, со своей стороны, был неизменно верен своему учителю. Подобно Тимофею, Лука был как будто нарочно создан для того, чтобы сделаться спутником Павла.
Судя по всему, благодать снизошла на Луку в Троаде, после чего он присоединился к Павлу и убедил его, что всего больше можно рассчитывать на успех новой проповеди в Македонии. Под впечатлением его речей Апостолу привиделся во сне македонянин, который звал его, говоря: «Приди и помоги нам!» Он объявил своим спутникам, что Бог повелевает ему идти в Македонию, и они ждали только удобного случая, чтобы двинуться в путь.
Сев на корабль в Троаде, Павел и его спутники (Сила, Тимофей, по всей вероятности, и Лука с попутным ветром пустились в путь и в первый же вечер зашли в Самофракию, а на другое утро» пристали в Неаполисе — городе, расположенном на небольшом мысе, как раз напротив острова Фаза. Неаполис служил гаванью большому городу Филиппам, лежавшему в трех милях от него глубже внутрь страны. Это был пункт, где Игнатийская дорога, пересекавшая с запада на восток Македонию и Фракию, касалась моря. Выйдя на эту дорогу, с которой они уже не сворачивали до самой Фессалоники, Апостолы поднялись по уступам, высеченным в скале, господствующей над Неаполисом, перевалили через небольшой горный хребет, идущий вдоль берега, и вышли на прекрасную равнину, посреди которой на выступающем отроге горы раскинулся город Филиппы.
Эта роскошная равнина, нижняя часть которой покрыта озером и болотами, за Пангеем сообщается с бассейном Стримона. Золотые россыпи, прославившие этот край в эпоху владычества Еллинов и Македонян, теперь были почти заброшены. Но выгодность военной позиции города, сжатого между горою и болотом, дала ему новую жизнь. Битва, разыгравшаяся у ворот его за девяносто четыре года до прибытия Апостолов, создала ему нежданную славу. Август основал здесь одну из значительнейших римских колоний, управляемую италийскими законами. Город этот был больше латинский, чем греческий; говорили здесь все по-латыни. Здесь господствовали пересаженные сюда целиком религии Лациума; окрестная равнина, усеянная замками, в описываемую нами эпоху также была совершенно римским уголком, заброшенным в сердце Фракии. Колония эта была приписана к трибе Волтиния, население которой состояло, главным образом, из остатков приверженцев Антония, поселенных в этих местах Августом, с примесью древней фрамгийской расы. Как бы то ни было, здесь жил народ очень трудолюбивый, любящий мир и порядок и в то же время очень религиозный. Здесь процветали всякого рода богатства, в особенности состоявшие под покровительством бога Сильвана, считавшегося покровителем владычества латинян. Мистерии Вакха Фракийского, таившие в себе возвышенную идею бессмертия, приучили народ к мечтам о будущей жизни и идиллическом рае, весьма близком к тому представлению о загробной жизни, которое прививало впоследствии христианство. И политеизм в этой местности был менее сложен, чем где бы то ни было. Культ Сабазия, Фракии и Фригии, находившийся в тесной связи с древним орфизмом и, кроме того, связанный синкретизмом той эпохи с мистериями Диониса, носил в себе зародыши монотеизма. Наклонность к детской простоте уготовляла путь Евангелию. Все здесь свидетельствует о честных, серьезных и кротких нравах. Чувствуешь себя приблизительно в такой же среде, как та, где зародилась сельская и сентиментальная поэзия Виргилия. На вечно зеленеющей равнине культивируются самые разнообразные овощи и цветы. Дивные источники, бьющие из золотистого мрамора у подножья горы, венчающей город, будучи хорошо направлены, разливают повсюду изобилие, тень и свежесть. Под кущами тополей, ив, фиговых и вишневых деревьев и дикого винограда, с его удивительно нежным благоуханием, повсюду струятся и журчат ручьи. На залитых водою или поросших высокими тростниками лугах паслись стада быков, буйволов с тускло-белыми глазами, с огромными рогами, по шею стоящих в воде; пчелы и целые рои черных и голубых мотыльков кружатся над цветами. Пангей, с его величественными вершинами, вплоть до июля месяца покрытыми снегом, словно идет через болото навстречу городу. Красивые линии гор со всех сторон закрывают собою горизонт, оставляя только один этот просвет, в который видно убегающее небо, и в светлой дали уже чувствуется близость бассейна Стримона.
Город Филиппы был самым подходящим местом для евангельской проповеди. Мы уже видели, что в Галатии римские колонии — Икония и Антиохия Писидийская — охотно принимали благовестив; то же самое мы увидим в Коринфе и Александрии Троадской. Народы, с давних пор оседлые, давно выработавшие себе местные традиции, менее податливы на новшества. Евреев в Филиппах не было вовсе или было очень немного, — быть может, всего лишь несколько женщин, праздновавших субботу; но даже в городах, где вовсе не было Евреев, всегда находилось несколько человек, праздновавших субботу. Во всяком случае, синагоги здесь, по-видимому, не было. Апостолы пришли в этот город в один из первых дней недели. Несколько дней Павел, Сила, Тимофей и Лука просидели взаперти у себя дома, по обыкновению дожидаясь субботы. Лука, знакомый с этой местностью, помнил, что люди, усвоившие себе еврейские обычаи, имели обыкновение в этот день собираться за городом на крутом берегу небольшой речки Гангитес. Достоверно одно — мирная сцена, описанная в Деяниях и положившая начало насаждению христианства в Македонии, разыгралась на том самом месте, где столетием раньше решалась судьба мира. В знаменитой битве в 42 году до Р. X. Гангитес служил сигнальной линией Бруту и Кассию.
В городах, где не было синагоги, собрания иудействующих происходили в небольших постройках без крыши или же просто на открытом воздухе, в полуогороженном пространстве. Эти молельни предпочтительно устраивались поблизости к морю или к реке для большего удобства омовений. Апостолы явились на указанное место; там собралось помолиться несколько женщин; Апостолы вступили с ними в разговор и возвестили им учение Иисуса. Их выслушали внимательно. В особенности растрогалась одна женщина. «Господь отверз ей сердце», — говорит о ней автор Деяний. Ее звали «Лидия», или «Лидиянка», потому что она была родом из Фиатир и торговала одним из главных предметов Лидийской промышленности пурпуром (багряницей). Это была благочестивая женщина, из тех, которых звали тогда «богобоязненными». Она крестилась со всем своим домом и не успокоилась до тех пор, пока не уговорила всех четырех вестников Христа поселиться у нее. Они пробыли в Филиппах несколько недель, каждую субботу поучая народ на молитвенном месте на берегу Гангитеса.
Здесь образовалась маленькая церковь, почти сплошь из женщин. Помимо Лидии, в состав ее входили Еводия и Синтихия (Фил. 4, 2-3), доблестно отстаивавшие вместе с Апостолом евангельскую истину; Епафродит — мужественный человек, которого Павел называет «братом, сотрудником, сподвижником»; Климент и еще другие лица, которых Павел именует своими «сотрудниками, имена которых записаны в книге жизни». Тимофей был также очень любим филиппийцами и сам был очень привязан к ним. Это была единственная церковь, от которой Павел принял денежную помощь, так как она была богата и не обременена обилием еврейских бедняков.
Характер христианки вырисовывался все определеннее. На смену еврейской женщине, порою такой сильной и самоотверженной, и сириянке с ее вспышками энтузиазма и любви, на смену Тавифе и Марии Магдалине выступает греческая женщина — Лидия Хлоя — живая, деятельная, кроткая, скромная, предоставляющая действовать своему учителю, сама, во всем подчиняясь ему, способная на самое великое, ибо она довольствуется ролью сотрудницы мужчины, его сестры и помощницы во всяком благом начинании. Греческая «слуга» церкви, или диакониса, превзошла мужеством и сириянку, и уроженку Палестины. Эти женщины, хранительницы тайн церкви, подвергались величайшим опасностям, выносили самые тяжкие муки, но никогда не выдавали своих; для церкви они сделали больше мужчин, хотя с виду как будто только служили и помогали им.
Один инцидент ускорил отъезд Апостола Павла и его спутников. Однажды на пути в молитвенный дом они встретили молодую рабыню, по всей вероятности, чревовещательницу, слывшую прорицательницей, предсказывавшей будущее. Ее хозяева недостойно эксплуатировали ее, наживая на этом большие деньги. Была ли эта бедная девушка действительно экзальтированным существом, или же она просто устала от своего унизительного ремесла, но только, заметив Апостола, она с криком и воплями побежала вслед за ним. Это повторялось неоднократно. Наконец, в один прекрасный день Павел начал увещевать ее; девушка успокоилась и стала уверять, что «дух», которым она была одержима, вышел из нее. Зато хозяева ее страшно негодовали, ибо выздоровление рабыни лишало их изрядного дохода. Они начали дело в суде против Павла и Силы, как его сообщника, и повели их на городскую площадь.
Требовать возмещения убытков по такому странному поводу было бы трудно. Поэтому жалобщики напирали, главным образом, на то, что иноземцы проповедуют недозволенное учение и смущают народ, — «проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Действительно, в городе действовало италийское право, а чем ближе к римской метрополии, чем больше люди дорожили этой близостью, тем более стесненной являлась свобода вероисповеданий. Суеверное, невежественное население города, подстрекаемое хозяевами прорицательницы, устроило Апостолам враждебную манифестацию. Такого рода маленькие бунты не были редкостью в древних городах; сплетники, праздношатающиеся только этим и жили. Начальники, полагая, что дело идет об обыкновенных Евреях, не справившись, что это за люди, без дальних околичностей приговорили обоих к битью палками. Ликторы сорвали с Апостолов одежду и жестоко избили их при всем народе (Деян. 16, 22-23). Потом их потащили в тюрьму, бросили в самый глубокий подвал и забили им ноги в колодки.
Потому ли, что им не дали сказать слова в свое оправдание, или же они сами: хотели пострадать и претерпеть за своего Учителя, только ни Павел, ни Сила не заявили начальникам о том, что они римские граждане. Об этом они заявили уже ночью, в тюрьме. Тюремщик был очень смущен; до сих пор он обходился с двумя арестованными Евреями довольно-таки грубовато; узнав, что перед ним Римляне — «Паулус» и «Сильван», притом безвинно осужденные, — он омыл им раны и накормил их. Возможно, что одновременно с этим были предупреждены начальники. Но утром, чуть свет, они прислали ликторов сказать тюремщику, чтоб он выпустил узников. Законы «Валерия и Порция» категорически признавали наказание палочными ударами Римского гражданина за серьезное превышение власти со стороны чиновника, наложившего подобное наказание. Пользуясь преимуществами своего положения, Павел отказался выйти из тюрьмы крадучись и потребовал, чтобы начальники сами пришли освободить его. Последние очутились в довольно неловком положении; тем не менее они пришли и убедили Павла покинуть город.
Из тюрьмы оба узника отправились прямо к Лидии. Их встретили, как мучеников; с последними словами утешения и увещания они простились с братьями и двинулись дальше. Еще ни в одном городе Павел не был так любим и сам не привязывался так искренне к людям. Тимофей и Лука остались в Филиппах. Луке суждено было свидеться с Павлом лишь пять лет спустя.
Павел и Сила, выйдя из Филипп, пошли по Игнатийской дороге, по направлению к Амфиполису. То был один из лучших дней в странствиях Павла. Путь его лежал вначале по Филиппийской равнине, затем через веселую долину, смеющуюся из-под нависших над ней Пангейских высот. Здесь возделывают лен и растения самых умеренных климатов. Римское шоссе вымощено мраморными плитами. Из каждой расселины гор выглядывают зажиточные селения. На каждом шагу, почти под каждым платаном, путник находит колодезь, полный водой, набежавшей из-под соседних снегов и профильтрованной толстыми слоями пористых горных пород. Из беломраморных утесов вытекают небольшие речки прозрачности необычайной. Вот где привыкаешь ценить безукоризненно чистую воду, как один из лучших даров природы. Амфиполис был большой город, столица провинции, лежавшей приблизительно на расстоянии часа ходьбы от устья Стримона. Павел и Сила, по-видимому, не заходили туда, быть может, потому, что это был чисто эллинский город.
Миновав Амфиполис и выбравшись из разветвлений Стримонского лимана, Павел и Сила пошли дальше берегом, между морем и горой, через густые леса и луга, набегавшие на прибрежный песок. Первый привал их был в чудном местечке, под платанами, около ледяного ключа, который бьет из песка в двух шагах от моря. Затем они вошли в Авлон Аретузский, глубокий горный овраг, по которому воды внутренних озер стекают к морю.
Миновав, без остановки, маленький городок Аполлонию, Павел обогнул озера с юга и, дойдя почти до самого низкого места равнины, центральная впадина которой заполнена этими озерами, очутился у подножья небольшой цепи холмов, замыкающей с востока Салунский залив. С вершин этих холмов виден на горизонте Олимп во всем его великолепии. Подножье и средняя часть горы тонут в лазури неба; снега вершины кажутся воздушным жильем, повисшим в пространстве. Перед Апостолом раскинулся большой город — Фессалоника.
Под владычеством римлян Фессалоника стала одним из важнейших торговых портов Средиземного моря. Это был город богатый и густо населенный, с большой синагогой, служившей центром для последователей иудейской религии в Филиппах, Амфиполисе и Аполлонии, где имелись только молитвенные дома. Павел и здесь повел себя, как везде. Три субботы подряд он проповедовал в синагоге, доказывая, что Иисус — Мессия, оправдавший все сказанное о Нем в Писании, что Ему надлежало пострадать и воскреснуть, и Он выполнил предначертанное. Несколько Евреев уверовали, но гораздо больше было обращенных из так называемых «богобоязненных» греков. Именно этот класс людей доставлял новой вере наиболее ревностных приверженцев. Фессалоникибская церковь скоро уже соперничала с Филиппинской.
Павел и Сила жили у некоего Иасона, родом Израильтянина, но не пользовались от него ничем, кроме крова. Павел работал день и ночь, занимаясь своим ремеслом, чтобы ничего не стоить церкви. Дважды за время пребывания своего в Фессалонике Павел получал из Филипп дары и принимал их. Это шло вразрез с его принципами, с его правилом жить своим заработком, ничего не беря от церквей; но эти дары шли от сердца, и Павел не решался вернуть их, боясь огорчить добрых друзей.
Нигде, кажется, Павлу не удавалось так близко, как в Фессалонике, подойти к осуществлению своего идеала. Население, к которому была обращена его проповедь, состояло, главным образом, из трудолюбивых рабочих; Павел учил их в свойственном им духе, проповедуя им аккуратность, любовь к труду и благопристойное поведение по отношению к язычникам. Павел скоро начал ставить фессалоникийскую церковь за образец всем другим, и добрая слава о ней, как благоухание, распространялась повсюду. Помимо Иасона, старейшинами церкви были Гаий, Аристарх и Секунд.
В конце концов и в Фессалонике произошло то же самое, что происходило уже десятки раз; недовольные иудеи смутили народ. Они навербовали целую ватагу праздношатающихся, бродяг и всякого рода проходимцев, которыми изобиловали античные города. Эти люди день и ночь слонялись под сводами базилик, всегда готовые учинить какой угодно шум и скандал, лишь бы только им заплатили. Вся компания осадила дом Иасона, с криком требуя выдачи Павла и Силы. Не найдя их, бунтовщики связали Иасона и с ним еще кое-кого из верных и потащили их к судьям. В толпе судили и рядили об этом на разные лады. Одни уверяли, что Иасон укрывал у себя в доме революционеров; другие — что арестованные отказались повиноваться императорским указам; третии говорил: «У них есть свой собственный царь, которого они зовут Иисусом». Народ волновался, и судьи опасались поступить слишком круто. Они взяли залог с Иасона и других арестованных и отправили их обратно. А ночью братья тайком вывели Павла и Силу из города и проводили их до Бери. Иудеи продолжали докучать вновь образовавшейся церкви разного рода придирками, но это только еще больше сплачивало ее членов.
Верийские Иудеи были либеральнее и лучше воспитаны, чем в Фессалонике. Они охотно слушали новые речи и не препятствовали Павлу излагать свое учение в синагоге. Напротив, это учение возбудило в них живейшее любопытство. Они целыми днями перелистывали книги Св. Писания, разыскивая в них тексты, приводимые Павлом, и проверяя их. Многие уверовали, в том числе один Еврей Сопатр, или Сосипатр, сын Пирра. Но и здесь, как и во всех других македонских церквах, большинство обращенных были женщины, все почти Гречанки, из тех благочестивых жен, которые, не будучи Еврейками, исполняли большую часть еврейских обрядов. Уверовало также много Греков и прозелитов. В синагоге, в виде исключения, все обошлось благополучно, но гроза нахлынула из Фессалоники. Тамошние Иудеи, проведав, что Павел с успехом проповедует в Верии, явились туда и подняли ту же историю. И снова Павлу пришлось наспех убираться из города, даже не взяв с собой Силы. Его провожали многие верийские братья.
Слух о его благовестничестве прошел уже по синагогам всех македонских городов, и дальнейшее пребывание в этой стране казалось Павлу невозможным. Его преследовали из города в город; бунты, так сказать, сами собой вырастали у него под ногами. Римская полиция не проявляла по отношению к нему особой враждебности, но поступала так, как обыкновенно при таких обстоятельствах поступает полиция. Как только вспыхивали уличные беспорядки, у нее все оказывались виноваты, и, не справляясь, насколько по-своему прав тот, из-за кого поднялось волнение, она предлагала ему замолчать или уходить подальше. В сущности, это значило становиться на сторону смутьянов и принципиально устанавливать, что достаточно нескольких фанатиков, чтобы лишить гражданина его прав и свобод. Поэтому Павел решил покинуть Македонию и перебраться в другую страну. Оставив Тимофея и Силу в Македонии, он вместе со своими провожатыми-верийцами двинулся к морю.
Так закончилось благовестничество в Македонии, наиболее плодотворное из всех, до сих пор предпринятых Павлом. Здесь образовались церкви из совершенно новых элементов. Македонское побережье было сплошь покрыто греческими колониями; греческий гений принес здесь свои лучшие плоды. Благородные церкви, филиппинская и фессалоникийская, состоявшие из самых именитых и почтенных женщин обоих городов, были двумя прекраснейшими победами, одержанными христианством.
📖 Р. К.
Продолжение читать здесь.