Ад - это вагина
Максим Кабир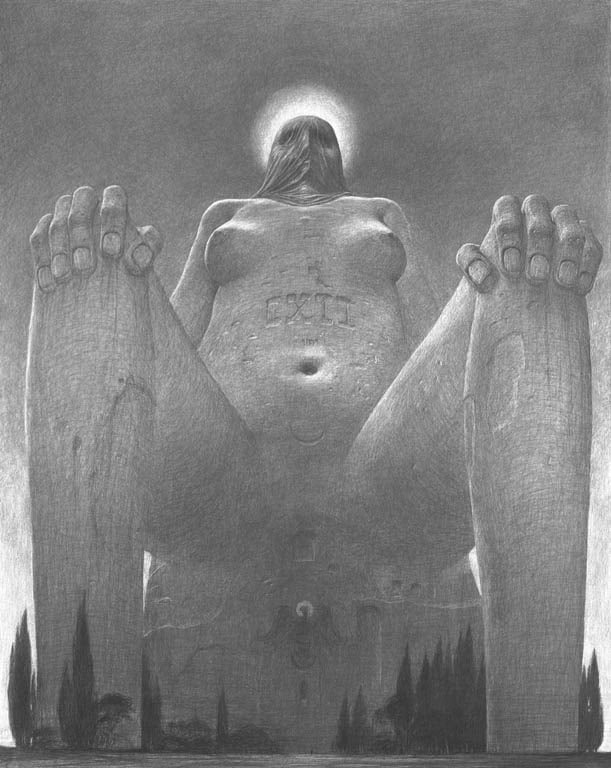
— Ад — это вагина, — произнес магистр Гьюдиче.
Музыка заглушила последнее слово. Я решил, что собеседник сказал «другие». «Ад — это другие», как в пьесе. Лично я ее не читал, но водил подружку на скучнейшую экранизацию.
Ресторан, в котором мы с Гьюдиче трапезничали, застрял в седом прошлом, но за окнами полноправно царил вполне себе двадцатый век, год тысяча девятьсот шестидесятый от Вифлеемской звезды, хлева и волхвов, и мода на экзистенциализм уверенно набирала обороты. Полагаю, даже крысы, рыскающие в сырых криптах под нами, дискутировали о Камю и Сартре.
Но, развеивая сомнения, Гьюдиче повторил:
— Ад — это вагина.
Я покивал, сохраняя безмятежность. В глубине зала залитый вином музыкальный автомат «Вурлицер» исполнял фокстрот. Мой визави с эротическим томлением оглаживал ножку бокала. В его облике, от навощенных тонких усиков до кончиков подкрашенных волос, сквозила какая-то непристойность, и я не думаю, что его сильно интересовали вагины. Гьюдиче титуловал себя «главным демонологом Парижа». Было логично, что мы встретились в ресторане на Данфер-Рошеро, известном как «площадь Ада». При Людовике XVI целые здания по рю д’Анфер провалились в преисподнюю, и сейчас здесь находился официальный вход в катакомбы, в жуткий оссуарий.
За грязным стеклом кипела жизнь. У каменного льва работы Бартольди повздорили водовозы. Старьевщик толкал нагруженную хламом тележку. Юным козликом скакал по лужам кюре из Сен-Жерве. А внизу покоились шесть миллионов мертвецов. Прелестно!
Что я сразу понял о Гьюдиче, впервые увидев полчаса назад: Люцифер при встрече не подал бы ему копыта. Обыкновенный фигляр, выбравший гоэтию как кратчайший путь в штаны симпатичным адептам. Меня смешили его высокопарная манера говорить, и лайковые перчатки, которые он не снял, принимаясь за еду, и томные взоры, посылаемые официанту. В эту дыру я явился ради паренька по фамилии Валенте. Так уж вышло, что Валенте сдуру разглядел в демонологе духовного наставника.
За соседним столиком накачивалась вином неопрятная старуха в пернатой шляпе. Сев на два стула, уплетал мясо по-бургундски месье, способный выступать в цирке уродов, разрекламированный как «самый толстый человек Франции».
Я пригубил божоле, ожидая, что Гьюдиче закруглит мысль. Просветленной физиономией он напоминал буддистского монаха из притчи, монаха, которому, после полувекового обета молчания, позволили сказать три слова, и слова были сказаны.
Я прочистил горло, вспоминая, что жизнь коротка.
— Мы говорили о Валенте. Вы виделись в марте, и больше он не приходил на ваши… гм, мессы?
— Наши таинства, — поправил Гьюдиче. Подмывало достать кастет, без которого я не покидаю дом, и расквасить его наружность. — Нет, но в прошлую субботу я получил от Валенте письмо.
Уже интереснее.
— Обратный адрес?
— Ничего такого.
— Текст?
— Вы меня не слушаете. — Гьюдиче похотливо осклабился, бомбардируя официанта телепатическими сигналами. — «Ад — это вагина». Вот что было в письме.
— И все? — разочаровался я.
— Не все.
«Святой Митрий! — Я закатил глаза. — Как же тяжело!»
Мои голосовые связки имитировали скрип. Официант, не поддавшись магнетизму демонолога, утопал за стойку. Пригорюнившийся Гьюдиче сказал:
— Там было конкретное имя.
— Я весь внимание.
— Аннелиза Кольманн.
— Уверены?
Гьюдиче одарил меня высокомерной гримасой. О, как близок он был к сломанному носу!
— Я уверен, месье сыщик. Письмо состояло из двух предложений. «Ад — это вагина. Ад — это вагина Аннелизы Кольманн». Не спрашивайте, кто такая — не имею понятия.
— Слава Сатане, — выдохнул я, без промедления вставая. Полчаса давиться вонью пота, который Гьюдиче безрезультатно пытался скрыть, опрыскавшись духами, — как по мне, чересчур. — Всего хорошего, магистр.
— Не хотите поприсутствовать на таинстве? — Гьюдиче коснулся моего локтя затянутыми в перчатку пальцами. — Вечером мы призываем Маракса.
— Самого Маракса? С радостью, да боюсь лобковых вшей.
Я зашагал к выходу. Старая алкоголичка махнула страусовыми перьями.
— Угостишь даму, красавчик?
При ближайшем рассмотрении лет ей было около пятидесяти. Полы шляпы маскировали клеймо, вырезанное доброхотами на морщинистом лбу: кривую свастику. Одна из лапок фашистского креста перерезала бровь и заползла на веко алкоголички.
— Лови, красотка. — Я ссыпал в подставленную ладонь горстку сантимов.
— Немного опытной ласки?
— В другой раз, крошка.
— Я тут с рассвета до заката.
Мы обменялись воздушными поцелуями. Над площадью Ада плыли пышные облака, воробьи срывались с фигурных фризов, чирикали в кронах конских каштанов. Внизу простирались чертоги мертвецов. Угольный фургон обдал выхлопным газом. Я прикурил сигарету и взял курс на седьмой округ. Шел по бульвару Распай мимо кладбища Монпарнас и всех этих милых домов, в которых творили Пикассо, Модильяни и прочие знаменитости. Я гадал, где мне найти Аннелизу Кольманн, девку с адской лоханкой.
***
До магистра Гьюдиче был сопливый малый, просивший называть его Тамплиером. До Тамплиера — таролог с нервным тиком, а еще раньше — забулдыга-розенкрейцер, представившийся потомком известного оккультиста Элифаса Леви. С занимательными людьми водил дружбу Валенте; я наотрез отказался удивляться и, сверяясь с записной книжкой, несся по течению, от одного экспоната кунсткамеры к другому.
Эти доходяги утверждали, что им ведомы тайны Вселенной, но про местоположение Валенте они ничего не знали. Четыре дня я убил впустую, вынужденный выслушивать эзотерический бред мистиков, которых родители в детстве лишили хорошей порции ремня.
А началось все в воскресенье в моем офисе на улице Сирк. Надо сказать, воскресное утро — это всегда головная боль, ибо пятницу и субботу я посвящаю делам, включающим в себя душевное распитие алкоголя. Накануне я побывал на творческом вечере Жоржа Сименона, чьи книги и подтолкнули меня к выбору профессии (мамаша пытала «лучшими школами Парижа», мечтая о сыне-литературоведе или сыне-богослове, ну-ну). Создатель комиссара Мегрэ расписался на свежем романе, мы обменялись рукопожатиями; помню, в баре на рю Дофин я совал в морды завсегдатаям пятерню, крича, что прикасался ею к гениальному Сименону, но, судя по всему, не снискал популярности.
Короче, я планировал почитать старика Сима и перетерпеть похмелье. Этот тип с кирпичной физиономией был мне нужен как герпес. Я бы еще понял — таинственная блондинка, появившаяся на пороге офиса. Но двухметровый шкаф…
«Стоило остаться дома», — подумал я, швырнув Сименона в ящик стола, к его коллегам Ноэлю Калефу, Гастону Леру, Морису Леблану и прочим.
— Секретарша не сказала, что я немного занят?
— Там не было секретарши, — басовито ответил «шкаф».
— Ах, конечно, — погрустнел я. Последняя девица, соглашавшаяся на мои условия оплаты, уволилась, залетев. Не от меня, к слову. С тех пор место в приемной пустовало.
— Ломбард этажом ниже, — сказал я, робко надеясь, что «шкаф» ошибся дверью.
— Месье Окер? — Надежда испарилась.
— Виноват…
— Автомобиль ждет.
— Я не заказывал такси.
— Вам придется поехать со мной.
— А иначе?
— Вариантов масса. — Он хрустнул костяшками внушительного кулака.
— Вы — отец Валери?
— Не понимаю, о чем вы, месье Окер.
— Вы — муж Софи? — Я называл наобум имена пассий.
— Наденьте плащ, месье Окер.
— Предупреждаю, меня мутит. — Я нащупал в кармане кастет, прикидывая, сумею ли вырубить здоровяка на лестнице. Разве что ударом в затылок.
— Вам станет легче, — пообещал гость. — Прогулка будет оплачена.
— Так бы сразу…
Затылок у громилы был соблазнительный, с мерзкой складкой, но я экономил энергию. В салоне синего «Ситроена» — им управлял однояйцевый близнец «шкафа», с таким же затылком и такой же складкой, — я попробовал незаметно сунуть в рот пальцы и подпортить обшивку, но конвоир мягко отстранил мою руку.
— Не ребячьтесь.
Я вздохнул.
«Ситроен» пересек площадь Звезды и покатил по авеню маршала Фоша. Не доезжая до Булонского леса, свернул в узкие улочки и через двадцать минут припарковался возле двухэтажного особнячка, белого, с рыжими кирпичными вставками и низенькой чугунной оправой трех балконов.
— Весьма скромно, — оценил я.
— Придержите язык, — посоветовал «шкаф».
Гостиная пахла мастикой и старыми газетами. Полутьма скрадывала убранство, но предметов, попадавших в скудные полосы солнечного света, хватало, чтобы составить беглое впечатление. Эти массивные кресла, увесистые трюмо, сундуки привезли из куда более просторного дома, где мебели было вольготно. Помещение напоминало перевалочный пункт. Вещи в нем чувствовали себя униженно.
— Дезидериус Окер?
— Живу с этим имечком тридцать лет.
Из сумрака сплелась женщина, маленькая и костлявая. Белоснежные косы ниспадали на плечи, она сутулилась, куталась в шерстяную накидку. Она мерзла в этой неприветливой обители сквозняков и, я был прав, не до конца привыкла к скромному особняку в переулке. Любопытно, она уже продает антиквариат, чтобы содержать дуболомов?
— Спасибо, Максим.
«Шкаф» поклонился и сгинул во мраке. Я покрутил шеей, позволяя женщине себя рассмотреть.
— Не помешало бы прибраться.
— Таким вас и описывали.
— Каким же?
— Наглым. Но я думала, вы старше.
— А я надеялся, вы моложе. С кем, кстати, имею честь? Мадам…?
— Валенте.
— Мадам Валенте, давайте ближе к делу. Меня тошнит.
Она не предложила сесть. Крошечная и усохшая, даже горбясь, она была величавой.
— Пропал мой сын. — Женщина прошлась к камину и сняла с полки фотографию, припудренную пылью.
— Славный пацан, — сказал я.
— Это старый снимок. Даниэлю двадцать семь.
— Так может, это… загулял с девчонками?
— Вот и выясните.
— Я не напрягаюсь бесплатно.
Она озвучила сумму.
— О, — сказал я. — А вдруг не найду его?
— Это цена за время. Найдете — утрою гонорар.
Похмелья как не бывало.
— Когда вы видели сына в последний раз?
— Двадцатого марта.
— Два месяца назад? Вы обращалась к фликам?
— Не доверяю полиции. И порой Даниэль путешествовал, не ставя меня в известность. Неделю-две. Но так надолго он не исчезал.
— Кем он работает?
— Никем.
— Свободный художник?
— Я бы сказала «лодырь». Вертопрах. Поганая овца. — За весь наш разговор ни единая мышца не дрогнула на бесстрастном лице.
— У вашей семьи есть недоброжелатели?
— Семья тут ни при чем.
— Ваш муж…
— Я вдова. Вы роете не туда.
— А что по поводу его личной жизни? Были подружки?
— Он крутил шашни с одной полячкой. Я говорила с ней, девочка клянется, что ничего не знает.
Осененный догадкой, я ухмыльнулся:
— Ее тоже принудительно-добровольно привозил к вам Максим?
— Возможно. Но я дам ее адрес. Месье Окер, — мадам Валенте провела рукой по обрезку траченной молью тафты, — у моего сына были специфические интересы. Он увлекался сатанизмом.
Я вынул мятую пачку «Голуаз» и прикурил, не спрашивая позволения.
— Он приносил в жертву козлов? Устраивал оргии?
— Мы жили под одной крышей, но Даниэль не делился со мной подробностями досуга. Ему нужны лишь мои деньги. Иногда он приводил в дом приятелей. Они возжигали ароматические свечи и читали гимны на латыни.
— Латынь. — Я высунул язык, гримасничая. — E fructu arbor cognoscitur.
— Дерево узнается по плоду, — спокойно перевела клиентка. — Весьма справедливо.
В залежах рухляди шуршало. Мыши грызли сокровища семейки Валенте.
— Могу я взглянуть на его комнату?
— Пожалуйста.
Коридор заставили коробками, увешали батальными полотнами в облупленных рамах. Сценки наполеоновских войн, декорированные паутиной. Любой бы сбежал из этого склепа.
— Налево.
В отличие от гостиной, комнатушка Даниэля Валенте была обставлена по-спартански. Аскетичная кровать, гардероб, стул и книжная полка. На стене аляповатая картинка с Иисусом.
— Не принесете стакан воды?
— Конечно. — Клиентка заскрипела половицами, удаляясь.
Я раздавил о подошву окурок и пульнул его под кровать. Отворил дверцы гардероба, чихнул и затворил. Проинспектировал корешки книг. Алистер Кроули, Папюс, Густав Майринк на немецком; «Интерпретация «Ключей Соломона» некоего Гьюдиче: худосочная брошюра с автографом; внезапно — изученный мной на зубок «Фантомас» Сувестра и Аллена; каббалистика Абрахама Вормсского; биографии Блаватской и алхимика Фурканелли. Я выбрал серый том с золотым тиснением «Легион».
Эпиграф был позаимствован из Священного Писания: «Легион — имя мне, ибо нас много». Я полистал надкусанные жуками-кожеедами страницы и напоролся на гравюру, изображающую трех громадных хряков, парящих вертикально в невесомости. Художник потрудился выписать каждую щетинку. Кабаны щерили черные пасти и пялились глазами, полными тупой злобы. «Гадаринские свиньи» — прочел я под гравюрой. Помнится — спасибо католической школе и обжигающей задницу указке учителя, — в свиней Иисус пересадил бесов, изгнанных из одержимого. Паслись себе хрюшки, и на тебе. Как тут не обозлиться?
Я швырнул книжку на кровать и приблизился к Христу, неуместному в компании оккультистов и демонологов. Снял картину с гвоздя и — вуаля! Изнутри к ней крепился потрепанный блокнот.
В коридоре заскрипели половицы. Я вернул картину на место, быстро пролистал находку — перечень фамилий, адресов — и, довольно крякнув, отрядил ее за пояс штанов.
— Ваша вода.
Я опустошил стакан и заявил самонадеянно:
— Отыщем мы вам сатаниста, мамаша.
***
Между сопливым Тамплиером и заикающимся тарологом, между заикающимся тарологом и смердящим мочой розенкрейцером я навещал мансарду в закопченном здании у Зимнего цирка, но не застал хозяев дома. Бог любит троицу, и я снова шагал в тени кленов. Париж я знаю как свои пять пальцев, как любое из приключений комиссара Мегрэ, а этот район знаю еще лучше. По рю Амелот я топал в школу; помню панно с портретом фюрера и лозунгом «Германия и Франция — общий путь на века», и размашистое «Здесь тебя отравят жиды» на витрине колбасной лавки, и «Обслуживаем арийцев» на входе в фотоателье. Немецкие названия улиц казались мне французскими словами, написанными безграмотно.
Спустя двадцать лет я шел, руки в карманы, раздумывая о Даниэле Валенте. Гьюдиче называл его «Пилигримом».
«Умный парень, перспективный. Но недисциплинированный. В нашем деле главное — терпение. Мы не фокусники и не гонимся за спецэффектами в духе Мельеза1, а Пилигрим жаждал всего и сразу».
«Чего же он жаждал?»
«Ада. Он искал ад, конечно же».
«Типа врата?»
«Врата, калитку, лазейку».
Стало быть, нашел? И у ада оказалось женское имя?
Я поднялся по ступенькам, тщетно трезвонил в залатанную дверь мансарды. С нижних этажей тянуло ароматами ужина, напоминая, что дома меня подстерегает антрекот. Не отчаиваясь, я устроился на лестнице и пошелестел купленной в киоске газетой. В прошлый визит сюда я напоролся на даму, замечательную во всех смыслах. Усатая, с коротенькими ножками, искривившимися под весом грузных телес, она учуяла запах курева и выскочила в подъезд. Без предисловий возмутилась:
— Круглые сутки у них дьявольская месса! Круглые сутки!
— У кого, простите?
— У этих, с шестой квартиры! Заведут шарманку и давай! Они называют это «рок-н-роллом».
— Святой Лебуин! — Я перекрестился.
— А песни-то на английском. Чтоб мы не понимали, о чем там. А там богохульства и сквернословия!
— Ну не настолько же…
— Уж поверьте! Вы, я вижу, человек, приличный.
— Весь в папу.
— Вчера в Латинском квартале драка была. Эти, из Сорбонны, хлыщи, вякали на генерала2. Так наши парни-патриоты им всыпали! И что вы думаете, месье?
— Что?
— У хлыщей прически эти — коки! Бачки! Браслетики! Штанишки узенькие! — Она смаковала подробности с омерзением и придыханием. — Вот кто их науськал презирать Родину?
— Элвис?
— Дьявол устами Элвиса.
— А скажите, — сменил я тему, — в мансарде девушка живет…
— Полячка. — Дама понизила голос. — Я слышала, они все завербованы Кремлем. Она возвращается с рынка в половине седьмого. — Дама подозрительно прищурилась, точно вдруг разглядела на мне красноармейскую буденовку или значок с Мао Цзэдуном. — Вы-то что думаете про Алжир?
— Я думаю, надо провести референдум.
Усатая губа дамы задрожала от негодования. Фыркнув, дама ретировалась и хлопнула дверью. И сегодня не вышла обсудить со мной новомодные молодежные течения и события в колониях.
Я закурил и пролистал, зевая, новости про голлистов, коммунистов, пужадистов3 и троцкистов. Меня мало заботила политика, но на шестой странице примостилась колонка о форварде Жюсте Фонтене, недавно вернувшемся из мадридского «Реала» в родной «Реймс».
В шесть двадцать девять внизу раздались шаги.