Жопа Повисла На Шпиле
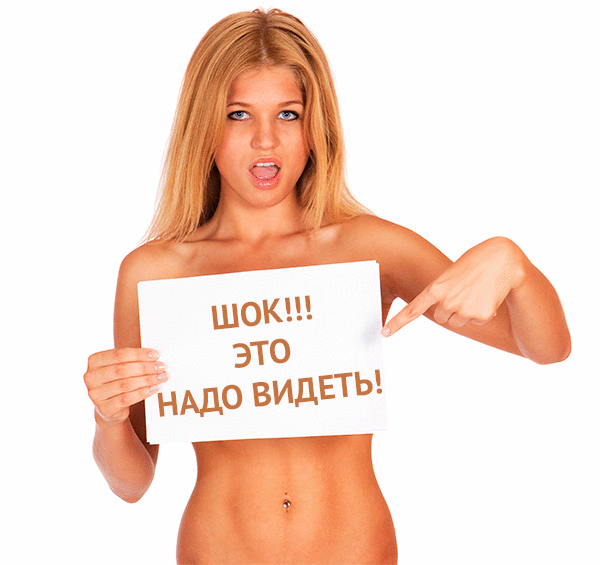
⚡ 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Жопа Повисла На Шпиле
Русский толстый журнал как эстетический феномен
Журнальный зал
© Горький Медиа. Сетевое издание «Горький» зарегистрировано в Роскомнадзоре 30 июня 2017 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77—70221
Валерий Бочков — прозаик, художник. Родился в Латвии. Вырос в Москве. Окончил художественно-графический факультет МГПИ. С 2000 года живет и работает в Вашингтоне. Член американского ПЕН-Клуба. Лауреат «Русской Премии» 2014 года в категории «Крупная проза» (роман «К югу от Вирджинии»). Постоянный автор «ДН».
Латгалия сверху похожа на лоскутный ковер. Такой ее видят ласточки и стрижи в звонкие летние дни: в клеверные луга и поля люцерны вшиты строгие квадраты хуторских наделов, в зелени сосновых лесов сияют цыганской парчой заплатки озер, ясной лентой петляет с востока на запад Даугава.
Если мне когда-нибудь удастся стать старым, то я вернусь сюда. Вернусь без карты, без компаса — буду спать на берегу озера или ручья, а утром, взобравшись на ближайший холм и оглядев округу, буду решать, какая из далей манит меня сегодня.
От солнца моя кожа станет медной, а волосы выгорят в белое. Небо будет синим, луга бескрайними, леса дремучими. В полях, где сейчас спеет рожь, я буду собирать ржавые гильзы и белые кости. Свои находки буду бережно складывать в старое солдатское одеяло, серое, из грубой шерсти. То самое, с трафаретной надписью «Из санчасти не выносить».
Я запросто мог появиться на свет в военном городке под Херсоном — там заканчивал летное училище мой отец, там он познакомился с мамой. Или в пряничном городке Ютербог, куда отец был направлен служить после училища. Кстати, именно там, на прусском востоке Германии, родился мой брат.
Спустя триста девяносто девять дней родился я. Во многом благодаря беспечности родителей и стечению обстоятельств. Неблагоприятных обстоятельств — так, по крайней мере, считает он, мой брат. Сам я об этом стараюсь не думать, но определенная логика в его точке зрения есть безусловно.
Могу вообразить, с какой неохотой родители оставляли этот Ютербог: на фотографиях цветущие вишни, из белой пены выглядывают черепичные крыши, дальше — горбатый мост из дикого камня (кавалькада рыцарей с пышными плюмажами на стальных шлемах вот-вот должна появиться), внизу — прыткая речка, за мостом, на взгорье двуглавый готический собор втыкает шпили в безмятежное небо. Строгий прусский минимализм — почти Кранах. Фото черно-белое, но даже без цвета видно, как они были счастливы тогда: мать — тихая улыбка одними глазами, бледное узкое лицо, воздушное платье, имитирующее клок облака, — она запросто могла сойти за ангела, если бы не кулек в руках. В кульке — брат. Его не видно, но всем известно, что он там. Рядом отец — гордый и чуть растерянный, как и полагается молодому папаше. Четкий профиль, подбородок, тугой зачес назад, сигарета — все в соответствии с эпохой. Сколько ему тут? — думаю, и двадцати пяти нет. На отце форма с новенькими погонами, ему только что присвоили старшего лейтенанта. До моего рождения остается триста двадцать семь дней. Подсчитать несложно — на обороте фото есть дата. Написана она курсивом, с нажимом, фиолетовыми чернилами. Отец был изрядный каллиграф (природный дар, неутомимой практикой доведенный до идеала), папаша не смог удержаться и ниже дописал: «Семейство Краевских в полном составе». И в этой фразе есть свой скрытый смысл.
Отец хотел быть актером, а стал военным летчиком. В пятнадцать лет он убежал из дома с какой-то вполне зрелой артисткой из Московского театра оперетты. Его поймали в Харькове — труппа с триумфом гастролировала по Украине, москвичи показывали украинцам «Летучую мышь» — и вернули в столицу. Домой, в семью. Отец отца, соответственно, мой дед, суровый старик с деревянной ногой, — протез поскрипывал при ходьбе, тонко, будто весело посвистывал, — не выносил неповиновения и считал дисциплину главным достижением человеческой цивилизации. Ногу деду оторвало в Померании, всего за четыре месяца до конца войны, когда в составе Первого Белорусского фронта он вел на штурм города Линде свою стрелковую дивизию. Его наградили звездой Героя и отправили в отставку в чине генерал-лейтенанта. Я ни разу не слышал его смеха. Раз в год, в мае, дед надевал парадный мундир со стоячим воротником, ватными плечами и широкой грудью, увешанной орденами в четыре ряда. Золотая звезда висела особняком — высоко, почти у ключицы. Погоны с двумя выпуклыми звездами были шиты золотой ниткой, сверкающей, как искры бенгальского огня. Мне страшно хотелось потрогать погоны, но я бы скорей умер, чем решился на это. Стоячий воротник с малиновым кантом тоже был вышит золотом. Мне тогда казалось, что мундир деда — одна из самых красивых вещей на свете.
Последний раз я видел парадный мундир на Новодевичьем кладбище. Был теплый октябрь, конец бабьего лета. Пахло желтыми листьями и московской пылью, теплой, с горьковатым привкусом копоти. Дедову звезду Героя несли на красной подушке, за ней следовали подушки с другими орденами, не такими важными. Кортеж замыкал гроб. Его поставили на черный подиум, накрыли крышкой и зачем-то крепко заколотили гвоздями. Звякнули ружейные затворы, солдаты дали залп, потом еще один и еще. Потянуло кислым дымом, как от новогодних хлопушек. Через три дня мы вернулись домой, в Кройцбург.
В переводе с немецкого это значит крест-город. Или город креста. В тринадцатом веке, а именно в 1237 году, его основали крестоносцы. Немцы, вот ведь педантичный народ, выбили название города и дату основания на каменной колонне, что и сейчас стоит на Рыночной площади. У нас есть замок, окруженный крепостной стеной, часовня с подземным ходом, лютеранский костел, древнее кладбище с каменными крестами — все, как полагается. Одно время в Кройцбурге располагалась резиденция рижского епископа. Город переходил из рук в руки, после крестоносцев тут хозяйничали шведы, потом поляки. В середине шестнадцатого века Кройцбург заняли войска Ивана Грозного. А через двести лет в нашем замке, завершая триумфальную Польскую кампанию, останавливался полководец Суворов.
Сейчас в замке Дом офицеров — бильярдная, буфет, кинозал и библиотека. В комнате, где спал генералиссимус Суворов, теперь сидит майор Ершов, директор клуба, громкий и широкий коротышка с бабьим румянцем во всю щеку. Его жена — Ершиха — воображает себя светской дамой, скорее всего француженкой, поскольку от природы картавит. По праздникам она натягивает на себя змеиное платье с глубоким вырезом-декольте, из которого пытаются выскочить ее огромные сиськи. Искристая чешуя платья делает Ершиху похожей на жирную саламандру. Я их никогда не видел, саламандр, но мне почему-то кажется, что они выглядят именно так.
В бильярдной четыре стола с зеленым сукном, высокий потолок зашит мореным дубом. Древесина почти черная, дубовые доски выдерживают под водой несколько лет — морят. Слово это мне напоминает Таню Мореву, я был в нее влюблен во втором классе. Потолок кажется низким, наверное, из-за того, что темный, на самом деле бильярдный зал высотой метра четыре. Дубовые панели и на стенах. На каждой стене по картине — огромные полотна в музейных бронзовых рамах, написанные местным художником-копиистом: «Василий Тёркин. Солдаты на привале», «Подвиг Николая Гастелло», «Александр Матросов закрывает грудью амбразуру фашистского дота» и, разумеется, «Переход Суворова через Альпы».
Я люблю разглядывать картины, я и сам неплохо рисую — но не с натуры, а по воображению. Суворов на картине похож на ехидную старушонку, бравые гренадеры усаты и краснощеки. А вот фашист-пулеметчик напоминает Мефистофеля, нос крючком и злые глаза, — его хищные пули веером прошивают грудь советского героя. Лицо Матросова как из камня — такого пулями не возьмешь.
Самолет Гастелло получился на пять: заклепки на фюзеляже выпуклые, железные. Будто их действительно вбили в холст для пущего реализма. Но больше всего меня восхищает Тёркин, даже не он сам, а то, с каким мастерством художник нарисовал папиросу в руке солдата: рыжий огонек так и горит — обжечься можно.
В бильярдной стоит густой мужской дух. Военный дух. Пахнет сапожной ваксой, одеколоном и табаком. Старый паркет скрипит под офицерскими каблуками, с треском сшибаются тяжелые шары — на их желтоватых боках выгравированы цифры, шары эти выточены из настоящих слоновьих бивней. Летчики немногословны, как и положено настоящим летчикам. Тем более, военным.
«Пятый — дуплетом от борта в центр» или «Седьмой — в правый дальний» — эти слова звучат как тайные заклинания. Мой отец тоже играет: закусив сигарету, он щурится от дыма — душистые сигареты с золотым ободком присылает из Москвы моя бабка. Отец красив, он действительно мог бы стать актером. Он эффектно нависает над зеленым столом, правая рука на отлете. Его ладное тело упруго, он подобен натянутому луку: рука — тетива, кий — стрела. Луза — цель.
— Восьмерка — триплет в левый угол, — объявляет он.
— Триплет? — шелестит шепот, зеваки окружают стол. Они сосредоточенно курят.
Удар хлесткий и сильный, он звонок, как пистолетный выстрел. Шар, крутясь, несется к борту, от него к другому.
Шар подкатывается к угловой лузе, замирает на краю, но все-таки соскальзывает вниз.
Отец усмехается, не отвечает. Со вкусом затягивается и выпускает дым тонкой струей вверх, в темные дубовые панели. Зрители одобрительно бубнят.
Наступает моя очередь — я подлетаю к столу, выуживаю холодный увесистый шар из сетки и ставлю на полку отца. Шаров у нас уже четыре. На один больше, чем у чернобрового капитана со страшной фамилией Черепов. Отец никогда ему не проигрывал. Хотя капитан Черепов тоже играет мастерски.
Тем летом я едва не утонул. Такая формулировка «едва не утонул» осталась в моей памяти — на самом деле меня чуть не утопил мой брат. Ему уже исполнилось пятнадцать, я еще застрял на четырнадцати.
Был полдень, конец июня, стояла жара. День начался с утра, чистого и пронзительного, как витражное стекло. Мы, человек шесть пацанов, ныряли с понтона. Эти понтоны еще в войну использовали для наведения мостов — выстраивали цепочкой от берега до берега, сверху крепили доски, и готово — хоть танки пускай. Похожий на циклопическую консервную банку — вроде как для сардин (если б сардины вымахали с акулу), он стоял метрах в двадцати от берега, этот понтон. Поднырнув под его брюхо, в темно-янтарной толще можно было разглядеть ржавую якорную цепь, а на самом дне огромный бетонный блок с железной скобой, к которой и прикована цепь. Пару раз во время ледохода понтон отрывался, однажды его утащило до самых порогов, что за Еврейским кладбищем, но каждым летом он чудесным манером возвращался на свое место.
Искусство ныряния с понтона состоит из двух важнейших компонентов — скорость разбега и высота подскока. Разбегаться нужно по диагонали, так длинней — получается ровно восемь шагов. Восьмой шаг приходится на самый край понтона. Беги, будто за тобой гонится черт с вилами. Отталкивайся обеими ногами и изо всех сил, так, точно пытаешься допрыгнуть до солнца. Еще: крайне важно уловить ритм — понтон качается — и в момент подскока борт, с которого ты прыгаешь, должен идти вверх.
Закрутить сальто в воздухе считалось особым шиком. Мой брат не просто крутил сальто, он умудрялся войти в воду рыбкой — без брызг. Изящно, как лезвие ножа. Мои сальто напоминали кувырки, и я непременно плюхался в воду лицом. Или брюхом.
Но в тот раз мне удалось сделать настоящий кульбит. Да, я успел выпрямиться, вытянуть руки и войти в воду без всплеска. Сквозь двухметровую толщу воды до меня понеслись восторженные крики с понтона.
Одним мощным гребком я вырвался из глубины на поверхность. Доплыл, в два приема подтянулся и выскочил на понтон — сбоку к борту была припаяна лесенка, но это для мелюзги.
— Ну ты дал, Чиж! — Женечка Воронцов, румяный с белыми девичьими ресницами, восторженно шлепнул меня ладошкой по мокрой спине. — Сальто мортале в чистом виде!
— Пять с плюсом! — Арахис ткнул мне кулаком под ребра, повернулся к моему брату. — Сделали тебя, Валет! Как ребенка сделали.
— Случайность,— брат презрительно сплюнул в воду. — Показываю, как надо!
Все расступились, освобождая место для разбега. Валет, загорелый и мосластый, как породистый жеребец, лениво дошел до края понтона, повернулся. Ухмыляясь, оглядел всех, всех по очереди. Всех, кроме меня — по моему лицу скользнул как по пустому месту. Замер, подался вперед, наклонив голову. На лбу проступила вертикальная жила, такая же как у отца. С берега долетел обрывок песни, пели что-то народное, хором, там, на берегу слушали транзистор.
Валет сорвался с места. Пятки застучали в железо, точно тревожная дробь цирковых барабанов. Пустое нутро понтона ответило гулким эхом. Подлетев к самому краю, брат оттолкнулся от бортика и взмыл вверх. На миг его мускулистое тело застыло в воздухе — бронза на синем, тут я понял, что вот сейчас Валет попытается сделать двойное сальто, за моей спиной Арахис восторженно выругался матом — и он был прав — картина была божественной.
Первый кульбит вышел безукоризненно, брат скрутился в узел — спина колесом, подбородок в колени — комок мускулов, сгусток энергии. Раньше двойное сальто не удавалось сделать никому из наших. Не удалось и Валету. На втором кувырке он врезался в воду, врезался лицом, подняв фонтан брызг.
— Жаба! — захохотал Сероглазов, жилистый и смазливый парень; его отца-майора три месяца назад перевели к нам из Германии, мамаша разгуливала фифой по гарнизону в красной шляпе с вуалью, а сам Сероглазов щеголял перед нами непромокаемыми часами с черным циферблатом и фосфорными стрелками, которые горели ночью зеленоватым светом. Утверждал, что в этих часах можно нырять на глубину сто метров.
— Валет жабу ляпнул! — изумленно выдохнул Арахис мне в затылок. — Чемпиону кирдык…
Брат вынырнул. Подплыв, он подтянулся, пружинисто выскочил на понтон. Лоб и правая щека горели румянцем как ожог.
— Не ушибся? — Сероглазов отступил назад, ласково ухмыляясь.
Брат зло посмотрел ему в лицо, не ответил.
— Однако, жаба… — Серый скрестил руки на груди, невзначай выставив свои часы. — Чемпионский титул аннулируется.
— Я вне зачета прыгал, — брат обеими руками зачесал назад мокрые волосы, туго, как отец. — Сечешь? Жаба не считается.
— Жаба есть жаба. — Сероглазов сделал еще шаг назад. — Сам знаешь. Верно, мужики?
Все молчали. Жаба есть жаба — тут Серый был прав, но и связываться с Валетом никто не хотел. Брат хмуро оглядел нас, я видел как он сжал кулаки, как надулась жила на лбу. У меня инстинктивно перехватило горло, я-то знал, к чему шло дело.
Брат медленно пошел на него. Все расступились. Железо понтона раскалилось, как сковородка. На берегу, перекрикивая радио, зарыдал младенец. На ватных ногах я отошел к краю — сейчас я был в безопасности, но по привычке меня начало мутить. Сероглазов продолжал ухмыляться, он явно не подозревал, чем это может кончиться.
Не знаю, возможно, я действительно с придурью, как считает бабушка, — я подслушал их разговор на кухне с моим отцом, когда мы навещали старуху в зимние каникулы, — но меня отчего-то охватывает дикий стыд за других людей, когда те говорят глупости или делают гадости. Даже когда это вытворяют совершенно посторонние люди. Не знаю. В такие моменты, чтобы остановить позорище и отвлечь внимание, я могу громко запеть или захохотать. Или выкинуть еще какой-нибудь фортель — вот, тоже бабкино словцо.
В драке брат зверел, зверел моментально. В стене нашей комнаты есть вмятина от гантели на уровне глаз, Валет метил в висок. В семь лет мне пришивали ухо — одиннадцать швов — брат почти вчистую откусил его. Выбитый коренной зуб и шрам на затылке от кастрюли — это все, не считая бесчисленных синяков и царапин, отметины его братской любви. В драке Валет не просто дрался, он пытался тебя убить. Его побаивался даже Арахис, квадратный детина с внешностью мексиканского разбойника.
— Жаба? — тихо спросил брат, глядя исподлобья на Сероглазова.
Тот, пятясь, остановился на краю понтона. Лениво потянулся, поправил бронзовую пряжку на своих немецких плавках — яркие радужные полоски, а сбоку кармашек с бронзовой застежкой в виде акулы.
— Ага, — ответил, улыбаясь. — Жаба.
Дальнейшее произошло мгновенно и почти синхронно.
Я не выдержал и крикнул: «Кончай, Валет!» Он даже не оглянулся. В тот же самый момент коротким бычьим ударом головой боднул Сероглазова в грудь. Грудная клетка ухнула гулко, как барабан. Серый, удивленно раскинув руки, полетел за борт. Его тело еще не коснулось воды, а брат уже подскочил ко мне. Кулака я не увидел — боль пронзила череп от подбородка до затылка. Мощный апперкот — Валет каждое утро дубасил боксерскую грушу в нашем гараже — в голове взорвалась вселенная и тут же рассыпалась белыми искрами.
Понтон и река подпрыгнули — точно я взлетел на качелях. Босые ноги мелькнули на фоне белых облаков и невинной июльской синевы. Испугаться толком я не успел, не ощутил и удара о воду, должно быть, на мгновенье даже потерял сознание — классический нокаут. Верх и низ перепутались, я стал почти невесом. В голове стоял звон, как от мелких серебряных бубенцов. Почему не колоколь- чиков? — не знаю, не знаю — бубенцов. Тягучая янтарная толща, расчерченная острыми лучами, потащила меня куда-то вбок. Течение, с упорством пьяного, влекло меня на глубину, на середину реки.
Безмолвие и покой — не так уж оказалось все страшно. Раньше иногда я пытался представить свою смерть — от пули, кинжала, прямого удара шпаги в сердце, — невыносимая боль, парализующий ужас, накрывающая с головой тьма — воображение рисовало куда более жуткие картины, чем эта. Я тонул, а значит, умирал. И смерть эта была мирной, почти нежной.
Зеленые ростки водорослей вытянулись вдоль дна, течение играло ими, как лентами на ленивом ветру. Илистое дно казалось затянутым в коричневый бархат. Мордатый сом, заметив меня, чванливо посторонился, но не уплыл, остался наблюдать. Притаился за корягой, вот дурак — думает, его не видно.
Я запросто могу сидеть под водой почти две минуты, ладно — полторы уж точно. Дольше Арахиса и Гуся, не говоря уже про Женечку Воронцова. Даже дольше Валета, хотя брат, зная это, со мной не тягается. Он соревнуется, лишь когда уверен в победе на все сто.
Течение тянуло меня. Я стал частью реки. Плыл над самым дном, нежные водоросли касались груди и ног. Выставил вперед руки — на глубине они казались бледными, точно были выточены из слоновой кости, вроде биллиардных шаров. Потом перевернулся, надо мной сквозь янтарную толщу проглядывало небо — солнце и облака, иногда мелькала тень птицы. У нас на Даугаве много речных чаек-клуш, они мельче морских, но такие же крикливые и скандальные. Понтон остался позади, темным пятном он чернел среди желто-зеленых бликов и солнечных зайчиков.
Злорадная горечь — всхлип пополам с усмешкой, когда не знаешь, разразишься хохотом или зальешься слезами — наполнила меня: там, на понтоне, Валет наверняка уже начал нервничать. Я представил, как он придет домой. Что будет говорить отцу и матери. Как будет врать. От жалости к себе я чуть не заплакал.
Воздух кончался. За эти десять секунд воображение успело нарисовать похороны — вышло горестно и уныло до зубной боли: я добавил серый дождик, жирную глину — мерзко коричневую, липнущую пудами к ботинкам. Фальшивые венки из крашеной бумаги раскисли, ленты потекли — «любимому сыну и брату», теперь вранье едва можно было прочитать на черных тряпках. Добавил звук — не оркестр, пять доходяг с мятыми дудками и один с аккордеоном. Никаких барабанов, большой барабан действительно трагичен, только визг и стон. Мне нужен фарс.
Даугава — река серьезная, широкая и быстрая. Меня вынесло на стремнину, надо мной серебрилась звонкая рябь. Лежа на спине, я плавно пошел к поверхности. Не вынырнул — всплыл, лишь выставил лицо. Понтон остался позади, метрах в пятидесяти. Вопреки ожиданиям, никто не всматривался в воду, никто не нырял в отчаянных попытках найти утопленника, никто не кричал и не звал на помощь. Они что-то обсуждали, стояли вокруг Валета и о чем-то говорили. Спокойно, обычно. Ни жестов горя, ни паники — ничег
Порно: красотка Rahyndee James уладила проблемы на работе диким сексом
Зрелая красотка в нижнем белье делает домашние селфи
Фото телки снимающей черный лифчик лежа на постели