Воровке очень противно когда её наказывает членом охранник
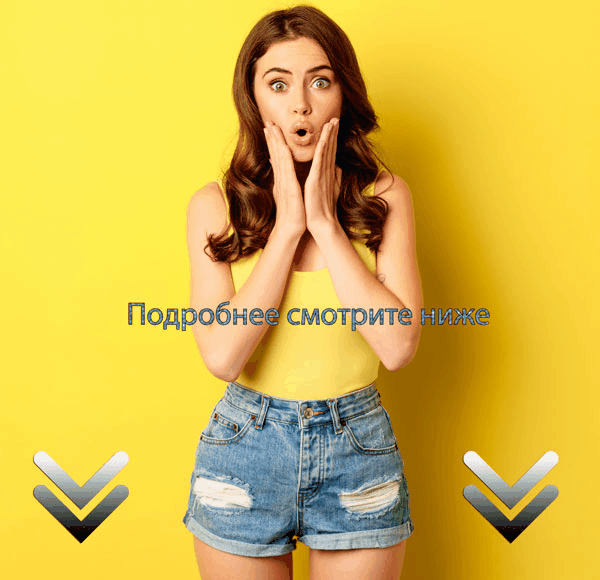
Воровке очень противно когда её наказывает членом охранник
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Люська, что ж ты, сука, на простынках белых
Ночью мне клялася в истинной любви?
Я ж тебя, паскуду, все же вывел в люди.
Цвет фона
черный
светло-черный
бежевый
бежевый 2
персиковый
зеленый
серо-зеленый
желтый
синий
серый
красный
белый
Цвет шрифта
белый
зеленый
желтый
синий
темно-синий
серый
светло-серый
тёмно-серый
красный
Размер шрифта
14px
16px
18px
20px
22px
24px
Шрифт
Arial, Helvetica, sans-serif
"Arial Black", Gadget, sans-serif
"Bookman Old Style", serif
"Comic Sans MS", cursive
Courier, monospace
"Courier New", Courier, monospace
Garamond, serif
Georgia, serif
Impact, Charcoal, sans-serif
"Lucida Console", Monaco, monospace
"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
"MS Sans Serif", Geneva, sans-serif
"MS Serif", "New York", sans-serif
"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
Symbol, sans-serif
Tahoma, Geneva, sans-serif
"Times New Roman", Times, serif
"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
Verdana, Geneva, sans-serif
Webdings, sans-serif
Wingdings, "Zapf Dingbats", sans-serif
Насыщенность шрифта
жирный
Обычный стиль
курсив
Ширина текста
400px
500px
600px
700px
800px
900px
1000px
1100px
1200px
Показывать меню
Убрать меню
Абзац
0px
4px
12px
16px
20px
24px
28px
32px
36px
40px
Межстрочный интервал
18px
20px
22px
24px
26px
28px
30px
32px
Цвет фона
черный
светло-черный
бежевый
бежевый 2
персиковый
зеленый
серо-зеленый
желтый
синий
серый
красный
белый
Цвет шрифта
белый
зеленый
желтый
синий
темно-синий
серый
светло-серый
тёмно-серый
красный
Размер шрифта
14px
16px
18px
20px
22px
24px
Шрифт
Arial, Helvetica, sans-serif
"Arial Black", Gadget, sans-serif
"Bookman Old Style", serif
"Comic Sans MS", cursive
Courier, monospace
"Courier New", Courier, monospace
Garamond, serif
Georgia, serif
Impact, Charcoal, sans-serif
"Lucida Console", Monaco, monospace
"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
"MS Sans Serif", Geneva, sans-serif
"MS Serif", "New York", sans-serif
"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
Symbol, sans-serif
Tahoma, Geneva, sans-serif
"Times New Roman", Times, serif
"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
Verdana, Geneva, sans-serif
Webdings, sans-serif
Wingdings, "Zapf Dingbats", sans-serif
Насыщенность шрифта
жирный
Обычный стиль
курсив
Ширина текста
400px
500px
600px
700px
800px
900px
1000px
1100px
1200px
Показывать меню
Убрать меню
Абзац
0px
4px
12px
16px
20px
24px
28px
32px
36px
40px
Межстрочный интервал
18px
20px
22px
24px
26px
28px
30px
32px
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера и обрабатываем IP-адрес вашего местоположения. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Здесь вы можете узнать, как мы используем эти данные.
Данный материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, либо касается деятельности такой организации (п. 6 ст. 2 и п. 1 ст. 24 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ).
Государство обязывает нас называться иностранными агентами, но мы уверены, что наша работа по сохранению и развитию наследия академика А.Д.Сахарова ведется на благо нашей страны. Поддержать работу «Сахаровского центра» вы можете здесь .
Двадцать лет этот час казался порогом в лучезарное будущее. Но вместе с радостью пришло чувство отверженности, неполноценности. Никто не вернет лучших в жизни двадцати лет, никто не воскресит умерших друзей. Никто не скрепит порвавшихся и омертвелых нитей, соединявших нас с близкими.
Возвращение к жизни — тяжелый процесс.
И тут как никогда важно подсчитать свой капитал: с чем ты вернулся, чем ты владеешь.
У тебя нет крова над головой, у тебя нет денег, у тебя нет физических сил. Твое место занято, потому что жизнь не терпит пустоты и кровавая рана, которая образовалась в плоти жизни, когда оттуда вырвали тебя, заросла. Твои родители умерли, твои дети выросли без тебя. Ты двадцать лет не занимался своей работой, ты отстал и можешь быть лишь подмастерьем там, где твои товарищи стали мастерами. А трудно быть подмастерьем в пятьдесят лет. Казалось бы, все очень плохо. Казалось бы, ты банкрот.
Но если эти годы ты честно думал, смотрел, понимал и можешь рассказать обо всем людям, ты им нужен, потому что в сутолоке жизни, под грохот патриотических барабанов, угроз и фимиама лести они не всегда могли отличить ложь от правды.
И горе тебе, если ты ничего не понял, ничего не вынес из бездны, в которой оказался. У тебя все отнято, и никакая бумажка не вернет тебе места в жизни.
У тебя осталось только то, что есть в твоей душе.
Эта книга зародилась в 1937 году, через год после того, как меня арестовали.
Сначала я не думала о книге. Думала о том, как объясню сыну и дочери, что их мать и их отец стали
«врагами народа». Я думала об этом все ночи. Само трудное в заключении — это научиться спать. Я училась этому три года. Три года я лежала тихо-тихо ночи напролет и мысленно рассказывала. Обо всем. Не только о себе. товарищах по несчастью, с которыми меня свела судьба об их горестных страданиях, трагических случаях их жизни. Когда свершалось что-нибудь потрясшее меня, я ночью «вписывала» это в мою устную повесть. И она становилась все объемистее и объемистее.
В 1935 году я наняла к детям няню. Это была работящая, чистоплотная женщина тридцати лет, очень замкнутая. У меня не было привычки интересоваться ее внутренней жизнью. Маруся казалась туповатой, равнодушной, с детьми была не очень ласкова, скупа и прижимиста, но исполнительна и честна.
Мы прожили с нею бок о бок целый год и были довольны друг другом.
Однажды во время обеда Маруся получила письмо. Прочитав его, она изменилась в лице, легла на свою постель и сказала, что у нее болит голова.
Я поняла, что у Маруси случилось несчастье. Сначала она не отвечала на мои вопросы и лежала лицом к стене, а потом села на постели и хриплым, злым голосом закричала:
— Знать хотите, что со мной? Извольте, только не прогневайтесь. Вот вы говорите, жить у нас хорошо стало. А я вот жила с мужем не хуже вашего, детей у меня было трое, получше ваших. Своим горбом дом наживала, скотину выхаживала, ночи не спала. Муж на все руки был: валенки валял, шубы шил. Дом был полная чаша. Работницу держали, так ведь это не зазорно, не запрещено. Вот вы держите работницу, ну и я держала в доме старух матери в помощь, а в поле сама спину гнула.
Только в тридцатом году зимой поехала я в Москву к сестре на роды, помочь, а в это время наших начисто раскулачили. Мужа в лагеря, мать с детьми в Сибирь. Мать мне письмо прислала — притулись как-нибудь в Москве, может, поможешь чем, а здесь хозяйства никакого, заработать негде, с ребятами в землянке мучаюсь.
Ну, я с тех пор по домработницам хожу, что заработаю — все им посылаю. А вот пишут — умерли мои дети... Она протянула мне письмо. Писала соседка: «От мужика твоего три месяца ничего нет, слышали, канал роет. Дети твои с бабкой жили, все хворали. Землянка сырая, ну и питанья мало. Ну ничего, жили. Мишка твой с моим Ленькой дружил, хороший парень был. А только начала валить ребят скарлатина; мои тоже все переболели, еле выходила, а твоих Бог прибрал. Мать твоя как без ума, не ест, не спит, все стонет, наверное, тоже скоро умрет».
В этот вечер я никак не могла дождаться мужа. Он был доцент университета, биолог, и, с моей точки зрения, умнее и ученее его не было на свете человека. Страшная тяжесть давила мне сердце. Мир, ясный, понятный и благополучный, заколебался. Чем же виновата Маруся и ее дети? Неужели наша жизнь, такая чистая, трудовая, неужели она основана на незаслуженных страданиях, крови?
Пришел муж, как всегда, возбужденный после лекции, с радостным чувством хорошо поработавшего человека перед отдыхом в кругу любимых людей. Дети бросились к нему, вскарабкались на спину. Ничего на свете я не любила больше вида своих визжавших от радости ребят, штурмующих широкую спину отца. Но сегодня я перехватила Марусин тяжелый взгляд и поскорее прекратила эту сцену.
Я вызвала мужа в другую комнату и рассказала ему обо всем. Он стал очень серьезен.
— Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков — кровавый и тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси не все так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь? Трудно поверить, что он так уж не виновен. Зря в лагерь не сажают. Подумай, не избавиться ли тебе от
Маруси, много темного в ней... Ну, я не настаиваю, — прибавил он, видя, как изменилось мое лицо, — я не настаиваю, может быть, она и хорошая женщина, может быть, в данном случае допущена ошибка. Знаешь, лес рубят — щепки летят.
Тогда я впервые услышала эту фразу, которая принесла так много утешения тем, кто остался в стороне, и так много боли тем, кто попал под топор.
Он еще много говорил об исторической необходимости перестройки деревни, об огромных масштабах творимого на наших глазах дела, о том, что приходится примириться с жертвами... (Я потом много раз отмечала, что особенно легко с жертвами примиряются те, кто в число жертв не попал. А вот Маруся никак не хотела примириться.)
Я ему поверила. Ведь от меня-то все эти ужасы были за тысячу верст! Ведь я-то жила в своей семье, в мире, который казался непоколебимым. Надо было поверить, чтобы чувствовать себя хорошим и нужным человеком. Да ведь я и привыкла ему верить, он был честен и умен.
А Маруся нянчила наших детей, хлопотала по хозяйству и только иногда, чистя картошку или штопая чулок, неподвижно глядела в стену, и руки у нее опускались, а у меня оживал червяк, сосущий сердце.
Но я быстро себя успокаивала: лес рубят — щепки летят.
В одну обыкновенную субботу я вошла в свой дом, полная мыслей о том, как проведу воскресенье, о том, как обрадуется дочка кукле, которую я ей несу, как будет восторгаться сын слоном, которого завтра я ему покажу в зоопарке.
Я всегда говорила, что я не обольщаюсь, как другие матери, и вижу недостатки своих детей. Но я лгала. В
глубине души я знала, что таких умных, красивых, обаятельных детей, как у меня, не было ни у кого на свете.
И я вошла в свой дом после работы, зная, что впереди чудесный субботний вечер и чудесный воскресный день.
Я отворила дверь. Меня поразил чужой запах сапог, табака.
Маруся сидела среди полного разгрома и рассказывала детям сказку. Груды книг и рукописей валялись на полу. Шкафы были открыты, и оттуда торчало всунутое наспех белье. Я ничего не поняла, мне даже в голову не пришло ни одной мысли, только стало страшно, предчувствие несчастья оледенило душу. Маруся встала и тихим, странным голосом сказала:
— Где муж? Что случилось? Он попал под машину?
— Неужели вы не понимаете? Забрали его.
Нет, со мной, с ним этого не могло случиться! Ходили какие-то слухи (только слухи, ведь это было в начале 1936 года), что-то произошло, какие-то аресты... Но ведь это относилось совсем к другим людям, ведь не могло же это коснуться нас, таких мирных, таких честных...
— Сидел бледный, передал часы для вас, сказал, что все выяснится, чтобы вы не волновались. Детям сказал, что уезжает в командировку.
— Да, конечно, выяснится! Ведь вы знаете, Маруся, какой он честный, какой хороший человек!
Маруся горько усмехнулась и посмотрела на меня.
— Эх вы, образованная! А не понимаете, что кто туда попал, не вернется. Разве там справедливость?
Но ведь я знала о нем все, знала, что он не мог сделать ничего преступного.
Нет, я буду бодра, я докажу, что верю в справедливость нашего суда. Он вернется, и этот гнусный запах, этот пустой дом — останутся страшным воспоминанием.
А потом потянулось странное время: дети ничего не знали. Я играла с ними, смеялась, и мне казалось, что ничего не произошло, что мне приснился дурной сон. А когда я выходила на улицу, шла на работу — я глядела на всех людей, как из-за стеклянной стены: невидимая преграда отделяла меня от них. Они были обыкновенные, а я обреченная. И они говорили со мной особенными голосами, и они боялись меня. Заметив меня, переходили на другую сторону. Были и такие, что оказывали мне особое внимание, но это было геройство с их стороны, и я и они это знали.
Один старый человек, член партии с 1913 года, пришел ко мне и сказал: «Устройте свои дела, может быть, вас тоже арестуют. И помните, на вопросы отвечайте, а лишнего не болтайте, каждое ваше лишнее слово повлечет за собой длинный разговор».
«Но ведь он совершенно невинен! Почему вы мне даете такие советы? Вы, большевик! Значит, вы тоже не верите в справедливость нашего суда? Вы недостойны партбилета!»
Он посмотрел на меня и сказал: «Запомните мои слова, а по существу поговорим через год».
Я считала ниже своего достоинства прислушиваться к его советам. Я старалась жить так, будто ничего не случилось.
В это время проходил съезд стахановцев щетинно-щеточной промышленности. Когда мы собрались в Витебске, оказалось, что работники этой промышленности встретились впервые со дня создания советской власти. На встрече выяснилось, что в Ташкенте изобретают машину, которая уже десять лет работает в Невеле, что технология, принятая в Усть-Сысольске и дающая блестящий эффект и для качества, и для количества, и не снилась минчанам.
Это была веселая, эффективная и благодарная работа. Я была секретарем съезда, работала целыми днями, забывала, что, приехав в Москву, я опять попаду в пустую квартиру и опять буду носить передачи в тюрьму...
Назавтра после моего возвращения в Москву за мной пришли.
Смешно сейчас вспоминать, но первой моей мыслью было: все материалы съезда у меня, съезд стоил пятьдесят тысяч рублей. Вся работа в набросках, все пропадет, никто не разберет моих записок.
Пока делали четырехчасовой обыск, я приводила в порядок материалы съезда. Я не могла всерьез осознать, что жизнь моя кончена; я боялась думать о том, что у меня отнимают детей.
Я писала, клеила приводила все в порядок, и пока я писала, мне казалось что ничего не случилось что я кончу работу и передам её, а потом мой нарком мне скажет: «Молодец, вы не растерялись, не придали значения этому недоразумению!» Я сама не знаю, что я думала, инерция работы, а может быть, смятение от испуга были так велики, что я проработала четыре часа точно и эффективно, как у себя в кабинете наркомата.
Проводивший обыск следователь, наконец, надо мной сжалился: «Вы бы лучше простились с детьми!»
Да. Проститься с детьми... Ведь я расстаюсь с ними. Может быть, надолго. Это выяснится, этого не может быть.
Я вошла в детскую. Сын сидел в постельке. Я ему сказала:
— Я уезжаю в командировку, сыночек, оставайся с Марусей, будь умным. Губки его искривились:
— Как странно! То папа уехал в командировку, теперь ты уезжаешь, вдруг уедет Маруся — с кем же мы останемся?
Дочка сладко спала и посапывала, уткнувшись в подушку. Я ее перевернула. Она засмеялась и пролепетала.
В первый раз в жизни я поняла, что это значит, когда слезы душат. Я никак не могла вздохнуть, но до сих пор с гордостью вспоминаю, что не показала сыну горя
Закрылась дверь. Сели в машину. Сразу жизнь обыкновенная, человеческая, с чувствами дочери, матери, работника
Иногда мелькали в мозгу по инерции какие-то заботы. Что-то недоделано, что-то надо исправить. Собиралась мазать окно. Дует. Сын простудится. Нет, не то. Что-то важное. Мама! Я все скрывала от нее опасность, которая надо мной нависла. Я ее утешала выдуманными сведениями о муже. Теперь она узнает.
Я не обняла ее, когда прощалась в последний раз, все откладывала разговор с ней, чтобы подготовить ее…. Нет. Не это самое главное. Что-то я не доделала... хотела идти к Сталину, добиться свидания с ним, объяснить ему, что муж мой невиновен…. Нет, не то… Что-то еще я не сделала...
Все. Отрезана жизнь. Я одна против огромной страшной, злой машины, которая хочет меня уничтожить.
Камера во внутренней тюрьме на Лубянке напоминала номер гостиницы. Натертый паркет. Большое окно. Пять
кроватей заняты, шестая — пустая. Но окно забрано щитом. В углу параша. В двери прорезано окошечко и глазок.
Ввели меня ночью, когда в камере все спали. Мне указали кровать. Лечь на нее казалось мне столь же немыслимым, как уснуть на раскаленной плите. Мне хотелось скорее поговорить с соседками, узнать от них, как проходит следствие, что мне предстоит. Я еще не научилась терпеть молча. Никто ко мне не обратился, все повернулись к стене от света и продолжали спать. Я сидела на постели, а ночь тянулась, а сердце разрывалось...
До подъема было два часа, но я их никогда не забуду.
Наконец в шесть часов в дверь стукнули: подъем.
Я вскочила уверенная, что меня сегодня же вызовут, все объяснится, я докажу, что я и мой муж не виноваты, я сумею убедить, что у меня нельзя отнять детей, что я чиста...
Первая истина, которую я усвоила, гласила, что в тюрьме главное — это научиться терпению, что меня вызовут или сегодня, или через неделю, или через месяц, что мне никто, никогда, ничего не объяснит.
Когда я поняла это (первые два-три дня я каждую минуту ожидала, что меня вызовут, а вызвали меня только на пятый день), я начала оглядываться вокруг и знакомиться с соседками. На Женю Быховскую я обратила внимание из-за заграничного, черного с красной отделкой платья.
«Вот это уже, наверное, настоящая шпионка!» — подумала я, видя, как она моется заграничной губкой и надевает какое-то необыкновенное белье. Лицо Жени портил нервный тик.
«Я-то не прихожу в отчаяние, — подумала я. — У меня-то все выяснится, а ты попалась и не можешь совладать со своим лицом».
Как потом я узнала. Женя работала в подполье в фашистской Германии и уехала оттуда потому, что тяжелая болезнь, сопровождавшаяся неожиданными обмороками, не позволяла ей оставаться в подполье. Один раз она потеряла сознание на улице, имея при себе партийные документы. Ее спас врач-коммунист, к которому она случайно попала.
В 1934 году ее отправили лечиться в СССР, а в 1936 году она была арестована. Одним из главных мотивов обвинения было, что она слишком уж ловко избегала лап гестапо, особенно в случае с обмороком, очевидно, у нее были там связи.
Всего этого я не знала и смотрела на нее с отвращением и злорадством.
Мне было легче сравнивать себя с «настоящими» преступниками. Я казалась себе рядом с ними такой ясной, такой чистой, что не только умный и опытный следователь, к которому я попаду, но и ребенок увидит, что я ни в чем не виновна.
Моя соседка справа, Александра Михайловна Рожкова, миловидная женщина лет тридцати пяти, имела срок пять лет, уже три года пробыла в лагере, теперь ее вызвали на переследствие по делу мужа-троцкиста, которого связывали с убийством Кирова.
Александра Михайловна с утра очень озабоченно- стирала, сушила и пришивала к блузке белый воротничок, так как ожидала, что сегодня ее вызовут на допрос.
Она мне рассказывала о лагере, в котором ей жилось неплохо, потому что она работала врачом, и упомянула в разговоре о своем сыне, однолетке с моим, оставшемся у подруги.
— Как! У вас остался сын? Вы его не видели уже три года?!
И эта женщина интересуется каким-то воротничком, спрашивает меня, что идет в московских театрах!
Я ужаснулась. Ведь я не прошла лагерной жизни. Я имела глупость и жестокость сказать:
— Вы, наверное, не так любите своего сына, как я. Я не смогу выжить без него три года.
Она холодно посмотрела на меня и ответила:
— И десять лет выживете, и будете интересоваться и едой, и платьем, и буд
Shay London сделала лучший минет года
Любовник жестко ебет смуглянку в душе и любуется ее сочной задницей
Русская Семейная Пара Снимает Домашнее Порно