Вместо похода в театр сестра трахнулась со своим братом
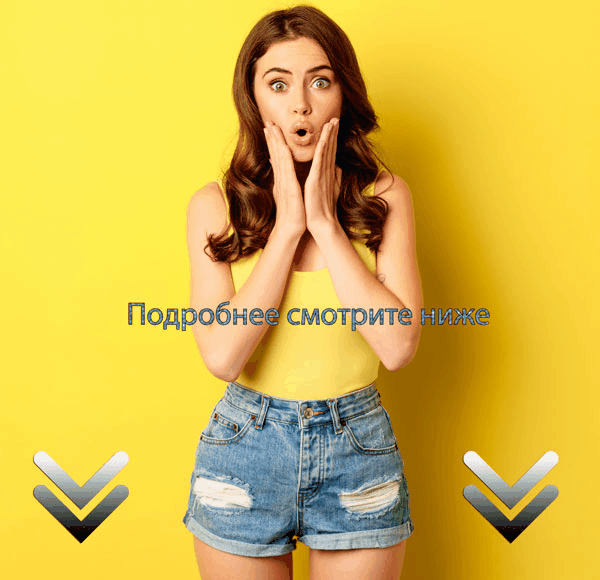
Вместо похода в театр сестра трахнулась со своим братом
Der Untergang /Нисхождение/
Вместо предисловия
Действие начинается после Первой мировой и заканчивается с окончанием Второй. Главный герой – немецкий интеллигент, медик. Его жизненный путь – университетская кафедра, операционная научно-исследовательского института, фронт, концлагерь, - заставляет его пересмотреть отношение к существующему режиму.
Предупреждения:
1. Данное произведение является художественным вымыслом автора, не претендующего на глубокие познания в области истории.
2. Текст содержит описание гомосексуальных отношений и откровенных гомоэротических сцен, эпизоды насилия и ненормативную лексику. Если вышеуказанное Вам по какой-либо причине неприятно, или если Вы не достигли 18 лет, пожалуйста, не читайте данный текст.
3. Текст ни в коей мере не является пропагандой фашизма, национализма или какого-либо иного –изма.
4. Лицам с зашоренным восприятием к прочтению не рекомендуется.
***
Посвящается:
Мелфу, без которого этот текст бы не появился
Снарке, без которой он не получил бы продолжения
Даламару, без которого я ни за что бы его не закончил
Автор выражает искреннюю благодарность всем, кто подгонял, напоминал и ждал.
Der Untergang /Нисхождение/
Михаил Светлов говорил:
«Порядочный человек – это тот, кто делает гадости без удовольствия…»
С.Довлатов «Ремесло»
Пролог
Небо сегодня акварельное, на прозрачную лазурь кто-то пролил розовый. Цвета и яркие до неправдоподобности, и одновременно какие-то рассеянные. Это просто насмешка над нами – обитателями Цолльхаузена. Здесь, где все кругом серо. Земля, бараки, лица людей, лица заключенных, лагерные робы.
Вон из крематория вышел доходяга кочегар – он весь припорошен сизым пеплом, глаза его воспалены и слезятся, когда он поднимает к небу лицо. А вот у серости земли оттенок коричневатый, гнилостный, что совершенно ненормально, учитывая ее сухость и каменную твердость, при которых гниение в принципе невозможно. Эсэсовский молодняк, даже самые циничные особи, по прибытии - фасадом белее полотна, как и те, кого вот-вот отправят в газовую. Покойники исчерна серы. Бывалая охрана тускла, как матовое стекло. И только мы – врачи, вечно румяны, потому что не просыхаем. Все, кроме Йозефа Айзеле. У Йозефа свои радости, о которых лучше умолчу.
Я посмотрел на часы. Однако Вольтер заставлял себя ждать. Проклятый флегматик! Если уж вдруг выдался свободный день, я не намерен провести его на госпитальном крыльце в ожидании стремительного Эвальда.
Эвальд Вольтер, разрешите представить. Талантливейший хирург и патологоанатом. Настоящий умница и настоящий алкоголик. Мой коллега. Неужели ему лишняя минута в мясницкой не жжет пятки? Я дошел до лабораторных дверей – всего каких-нибудь десять – двадцать шагов, и-то развлечение. У лаборатории дежурил Ганс… как бишь его?.. Шпек, кажется. Простоватая и глуповатая мордень, рыцарь нашего времени, крестьянское дитя в доспехах, честное слово, а гонору на целый гарнизон, и столько же служебного рвения.
- Сигарету хочешь, Ганс? - спросил я с сочувствием; постой-ка с его.
- Никак нет, гауптштурмфюрер Шайдер! Не положено, - отбарабанил и опять, как статуя, сделался.
- Да ладно тебе, не положено. Бери, я никому не скажу. Вижу, хочешь.
Парень покосился на протянутую сигарету с видом заядлого курильщика, у него даже нос, кажется, вытянулся в сторону моей руки, силясь уловить запах табака. Но тут, будто кто-то дернул его за нужную нитку, и он опять свое чеканит:
- Не положено. Виноват, на посту!
Нет, так нет. Я закурил сам. Чуть поодаль с достоинством пыхтела служебная машина – некогда предмет моих вожделений, а теперь просто лодка Харона, сменившая расписание маршрутов в отношении поездок в один конец. Несколько человек могли рассчитывать на возвращение из долины смерти.
Первое время моего пребывания на посту главного врача госпиталя СС я пользовался этой привилегией ежедневно. Пользовался, пока не наступила скотская апатия и равнодушие. В какой-то момент стало просто все равно, живу ли я в двух шагах от комбината уничтожения и переработки или же нет. В любом случае с утра до позднего вечера приходилось торчать здесь, так что постепенно смысл ежевечерних отъездов в арендованный в городе дом приобретал характер все более эфемерный. Тем более что в госпитале у меня имелась так называемая комната для отдыха, смежная с кабинетом. Постепенно туда перекочевали необходимые вещи, и она стала нелюбимой, но привычной берлогой.
Однако сегодня мы ехали в город. После визита к нам инспектора из Берлина – этакого сушеного гриба, шустрого, как веник и пронырливого, как хорек, - медперсонал Цолльхаузена схлопотал по шее за вопиющее несоблюдение санитарных норм. Сейчас в госпитале и лаборатории кипели дезинфекционные работы. А мы с Вольтером решили предпринять вылазку наружу, раз уж сегодня не могло идти речи о том, чтобы двигать отечественную науку.
Планировали совершить набег на ресторан, но набег цивилизованный и даже культурный. Вольтер все напирал на то, что надо, наконец, начать отдыхать по-человечески, вместо того, чтобы надираться до поросячьего визга в духоте и вони рабочего кабинета, среди грязных пробирок и заспиртованных образцов, закуску вынимая чуть ли не из судна.
Эвальд показался в дверях. Шинель его была застегнута кое-как, фуражка съехала набок.
- Эээрих, иттит твою мать! Ты все еще здесь?! Я ж сказал тебе, езжай, не жди меня, сам дойду.
Ну конечно, сказал. А не сказал, так подумал. Залил уже шары с утра и мысли со словами путает. Сукин сын!
- Ты не сказал, Эвальд. Не сказал, - с расстановкой проговорил я. – И потом, что значит, «дойду»? Забыл, что Айзеле говорил про безопасность и обстановку строжайшей секретности, про «передвигаться по городу только на служебном транспорте»?
Тут Эвальд скорчил презрительную мину и одной короткой, но емкой фразой изложил мне свое мнение о докторе Айзеле, главном враче лагеря, руководившем Научно-исследовательской медицинской лабораторией Цолльхаузен.
Я покосился на каменевшего поблизости часового Ганса.
- Ты бы поосторожней все-таки, - тихо сказал я Вольтеру и, взяв его под локоть, повел к машине.
Очутившись в уютном тепле мягкого салона, Эвальд сочно и зычно захрапел. Я завистливо покосился на него – сам уже с месяц мучился бессонницей и был, кажется, на последнем издыхании, на грани износа.
Мне все лезло в голову прошлое. Не давало покоя. Как убийцу пытает память, не оставляют воспоминания о содеянном, так меня отшвыривало на годы и годы назад, и я рылся, искал чего-то в хламе, трухе заплесневелой макулатуры дней, недель, месяцев, лет. Но штука в том, что убийцей я был сейчас. Так почему же прошлое, чистое мое прошлое, светлое и незапятнанное, кричало и вопило, требуя внимания к себе, вызывая меня ответчиком на суд?
Я являлся. По первому требованию. В любой час. Я привык подчиняться приказам. Все мы привыкли.
Часть I
Люди смотрят туда, где сливается небо с землею,
И на лицах колеблются тени угрюмою мглою.
Ребятишки кричат и гурьбою бегут под откос.
Отчего так тревожна и жалобна песня колес?
Небо кротко и ясно, как мать.
Стыдно бледные губы кусать!
Надо выковать новое крепкое сердце из стали
И забыть те глаза, что последний вагон провожали.
Теплый ветер шинели шуршит у щеки и волос, -
Отчего так нежна колыбельная песня колес?
Саша Черный
Я плохо помню детство. Некоторые рассказывают о своем в мельчайших подробностях. Полагаю, привирают порядком. Но мне даже подробностями декорировать нечего. Так, какие-то обрывки, которые, по большей части, и ворошить-то не хочется.
Я не был счастливым ребенком. То есть, у меня имелось полдвора приятелей, и друзья настоящие были, и уйма всяких штуковин, которые так важны, когда ты ребенок. В отличие от многих, на чью долю выпали скудные военные и послевоенные годы, мне не приходилось голодать.
Вот только возвращаться домой никогда не хотелось. Между мной и моими братьями (а всего нас было трое) не было любви или даже хоть сколько-нибудь выраженной привязанности. Когда потом, уже не будучи ребенком, я терял их одного за другим, - не чувствовал ничего особенного, кроме отстраненной грусти, да и то такой, какая бывает словно по инерции, потому лишь, что от тебя ее ждут, так положено.
Мой отец владел небольшим литейным заводом, производившим фермерское оборудование. В четырнадцатом году, когда отца призвали в армию, благодаря умелому руководству матери, семейное предприятие не обанкротилось, как это случалось в ту пору сплошь и рядом. Однажды прибрав власть к рукам, мать уже не хотела с нею расставаться. Она не уставала напоминать вернувшемуся с фронта отцу, кому он обязан нынешним финансовым благополучием.
Частенько она приезжала на завод в разгар рабочего дня и запросто могла устроить моему родителю головомойку в присутствии подчиненных. Хотя вообще-то ей нравилось строить из себя великосветскую даму. Еще бы, ведь семья Шайдер была самой влиятельной в городе, добрая половина населения которого работала на нашем заводе. И даже когда инфляция несколько приглушила блеск фамилии, самомнение фрау Шайдер не пострадало ничуть.
Веселость в нашем доме не поощрялась. Громкий смех порицался.
«Мужчина должен быть сдержан, несуетлив, хладнокровен и серьезен», - увещевал отец всякий раз, как кому-либо из нас, его сыновей, случалось проявить природную живость.
Помню, гостила в нашем доме младшая сестра отца – тетя Маргарет со своим сыном Клаусом. Мы с кузеном, сдружившись прошлым летом, в Ингольштадте куда я ездил навестить бабушку, на радостях от встречи устроили беготню по дому с переворачиванием стульев, криками и хохотом. Нам обоим было, кажется, что-то около восьми лет. Отец тихо вышел из кабинета, возник на пороге гостиной, как призрак, и сухо произнес: «Ты ведешь себя, как девчонка, Эрих». Это заявление, произнесенное к тому же, не с глазу на глаз, несказанно задело меня.
Неудивительно, что тетя Маргарет и Клаус надолго у нас не задержались. Моя мать невзлюбила эту миловидную, улыбчивую молодую женщину, которая не считала, что замужество обязывает ее одеваться, как монахиня, и ходить изо дня в день с постной миной. Мне было жаль расставаться с кузеном, но родительский суд постановил, что больше нам видеться не следует – Клаус дурно на меня влиял.
Я изо всех сил старался соответствовать отцовским критериям истиной мужественности, но так и не удостоился его одобрения. Никто из нас не удостоился. Мой старший брат Вольфганг, пожалуй, отвечал идеалу молчаливого достоинства и холодной невозмутимости, культивированный родителем. Но Вольф жил своей музыкой и ему совершенно не было дела до людей его окружавших и событий, вокруг происходивших. Наверное, поэтому меня так шокировало, когда годы спустя Вольф был арестован как участник демонстрации, направленной против притеснений евреев. Больше мы о нем ничего не слышали.
В общем и целом, в детях отец был разочарован. Свое отцовство в отношении старшего Вольфа он, кажется, и вовсе полагал сомнительным. Увлечение сына музыкой казалось ему лишь уловкой для сокрытия лени и нежелания заняться тем, что называется «настоящим делом». То, что это и есть Вольфово дело жизни, он или не замечал, или не хотел замечать.
А ведь даже я – двенадцатилетний - оказался куда сообразительней. Хватило одной поездки на Вагнеровский фестиваль в Байройт – Вольф отчего-то вознамерился приобщить меня музыкальных таинств и потащил с собой. Надо было лишь видеть его лицо в момент, когда дирижерская палочка взмывала вверх, миниатюрной молнией рассекая полумрак концертного зала, творя чудо, подобно орудию волшебника из детских сказок.
Тишина умирала, прорастая фантастическими цветами мелодии. Вольфа просто не было рядом, он куда-то исчезал, уходил, завороженный, отрешенный, а я… Мне гораздо интересней было следить за руками дирижера, то на крылья птицы взмахами похожие, то на руки рыбака, тянущего сети из моря, то на руки любовника, ласкающие невидимую музыку, словно милую.
Дирижер колдовал звуки, Вагнер обрушивался на меня девятым валом, мощными сокрушительными потоками, но я был взволнован собственным открытием – третья слева скрипачка влюблена в дирижера. Некрасивая, худющая, с неправильными чертами, бледненькая девчушка смотрела на него так, будто воплощение бога на земле узрела, а ее маленькая скрипочка превратилась в яростное орудие объяснения. Вон, живчик кларнетист не может усидеть на месте, будто инструмент заставляет его приплясывать и раскачиваться из стороны в сторону. А у контрабаса болит зуб или голова, как он бледен и хмур… Виолончели переглядываются задорно-заговорнически, а флейта помирает со скуки без дела.
Эх, Вольф, не страшно, что я так и не научился понимать музыку, страшно, что не сумел или не успел понять тебя.
Позднее эстафету родительских разочарований подхватил я сам, когда заявил, что не стану продолжать «семейное дело», а хочу изучать медицину. Остался младший Ганс, у которого не было иного выбора, кроме как готовиться стать хозяином отцовского завода. Кроткий и покладистый, Ганс менее всех троих из нас годился на эту роль. Его склонность к компромиссу и нерешительность неминуемо привели бы завод к банкротству. Но он разочаровал отца гораздо раньше, чем до этого дошло. С началом войны (второй большой, разумеется), когда мой младший брат изо всех сил рвался на фронт, его признали негодным к воинской службе. В тот же день он покончил с собой, перерезав вены. Дурачок, подождал бы немного, и никто не посмотрел бы на его плоскостопие, - загребли бы и погнали, как миленького.
Отец назвал самоубийство Ганса недостойной слабостью и после похорон больше никогда не касался этой темы, наложив на нее табу и для всех домочадцев.
Но все это было потом. А пока… Что с того, что дома запрещают стоять на ушах, когда это можно запросто проделывать на улице вдалеке от строгих глаз родителя? Да, меня лишили Клауса, но ведь есть же Макс. Макс – детская песочница и игры в шарики, футбол, ножички и лазанье по деревьям, верное плечо в стычках с дворовыми мальчишками, лучший друг, почти мое второе Я.
Макс жил на соседней улице. Мы знали друг друга с раннего детства, но особенно сдружились по окончании войны – той первой, далекой, разумеется. Нам было тогда по десять, и разразившаяся инфляция сразу ударила по доходам родителей довольно ощутимо. Во всяком случае, я не мог больше учиться в привилегированной частной школе и должен был перейти в обычную среднюю.
Семья Макса была не в пример бедней – они и в лучшие времена с трудом позволяли себе роскошь приличного образования для сына, а уж теперь… Короче говоря, Макс оказался там на несколько месяцев раньше меня и уже успел приспособиться, но слишком хорошо помнил собственный болезненный дебют в том же качестве. В нем нашлось достаточно сочувствия, чтобы помочь мне справиться с этой своеобразной инициацией – вживанием в сообщество хулиганствующих сорванцов из бедных семей, ненавидевших «богатеньких барчуков».
Уверен, что и так завоевал бы авторитет среди них, но без Макса все пошло бы много более тернистыми путями. Не знаю уж, кто из нас был заводилой, но вскоре мы, здорово спевшись, превратились в двух самых проблемных учеников школы и завсегдатаев директорского кабинета.
Вот вам пример типичного для нас учебного дня.
Первый урок, скажем, история. Макс ерзает на своем стуле – нервничает ужасно, потому что вчера даже не заглянул в учебник, а у него уже колонка с оценками в классном журнале так и горит обещанием нагоняя, вызова в школу родителей или еще какой ученической «прелести».
- Хоть бы меня не вызвали, - шепчет мне Макс.
- Все там будем, - трагическим шепотом отвечаю я.
И тут, разумеется, следует реплика учителя:
- Зорге!
(Это Максова фамилия.)
Мой друг встает из-за парты весь белый, медленно и торжественно шествует к доске, словно на эшафот идет. Он стоит перед классом с видом какого-нибудь чертова героя французской революции, вернее, вчерашнего героя, которого сегодня собираются гильотинировать по последней моде.
- Расскажи-ка мне, Макс, о мотивах захватнических войн Наполеона, - просит учитель.
- Ну… Наполеон, он… Наполеон, в общем, рассуждал так: это чужая территория, поэтому ее нужно захватить, - отвечал Макс, который был теперь красен от напряжения.
- Клянусь Богом, это прелестно! Более точного ответа мне в жизни не давали, - с жестоким смехом отвечал учитель. – Это все, что ты имеешь мне сообщить?
- А что тут еще говорить-то? – недоумевал Макс, глядя в пол.
- Трудно, да, Зорге, не читая параграфа, так сразу ответить и не сбиться, - ехидно спрашивал учитель.
- Ну да, трудновато, - признавался Макс.
- Садись на место – порадовал, как всегда.
- Что, жук, прижух? – спросил я Макса на перемене, завидев его кислую физиономию.
- Да ну его, этого Хартмана! Вечно он ко мне придирается.
Следующий урок – географию - Макс прогулял в буквальном смысле слова – отправился на улицу и прошлялся там, развеивая испорченное историком настроение.
- Я видела сегодня Зорге в школе, - обратилась ко мне географичка, когда я заявил ей, что Макс ужасно болен и на занятия не явился.
- У Вас был оптический обман, - ответил я ей, пожав плечами и честно заглядывая в фантастически толстые стекла ее очков.
Мы воссоединились на химии, куда Макс прибыл, уже совершенно позабыв об исторических горестях.
Мы болтали весь урок напролет, даже не понижая звука. Нас периодически одергивали, но эффекта от этого было мало.
- Запишите домашнее задание… - донесся до меня учительский голос, пробившись сквозь рассказ Макса о новых марках, которые он увидел в витрине магазина для филателистов – Макс собирал почтовые марки.
- Записывай, - я толкнул его в бок, и мы оба изобразили само внимание.
- Даны вещества, - скрипел старик Лутце, - натрий, калий, магний, кальций… аргентум, феррум…
- Все перемешать и выпить, - шепнул я Максу, но шепот получился какой-то неожиданно громкий, в общем, и не шепот вовсе, а полноценный «вслух».
- Эрих, я тебя сейчас пну, - сурово пообещал Лутце. - Мой магнетический взгляд потерял свое воздействие. Покажи мне кнопку, на которую нужно нажать, чтобы ты заткнулся, - не удержался от грубости выведенный из себя пожилой гном.
На зоологии после долгого объяснения учительница сделала паузу, оглядела класс и сказала:
- Кто не понял – выходите к доске.
- Расстреливать будут? – поинтересовался я, иронично приподняв брови.
- Встаньте-ка, Шайдер, - прошипела фрау Энгель, словно раздразненная змеища.
Ну, я встал, мне нетрудно.
- Скажите мне, Шайдер, - начала она, хищно сощурив глаза. – Почему божья коровка имеет яркую окраску?
- Чтобы отпугивать, - не растерялся я.
- Чудовище! – весело заржал Макс у меня под боком.
- Довольно! – учительница стукнула указкой по своему несчастному столу; указка треснула и ополовинилась. - Почему у вас один учебник на двоих?! – вопросила фрау Энгель, сжимая в обеих руках обломки школьной власти.
- Потому что один, - отвечал я, пожав плечами.
К слову сказать, учебник мы позаимствовали у однокашника, своих у нас и вовсе не было.
В конце концов, мы неизбежно очутились в кабинете директора, куда, получив от других учителей накопившиеся за день жалобы, нас привел классный руководитель. О, мы были его фиолетовым ночным кошмаром, он положительно не знал, что с нами делать, потому что все обычные методы борьбы с нерадивыми учениками тут не действовали ни на йоту.
- Что опять случилось? – устало поинтересовался герр Бекер, директор нашей школы.
- Не знаю, с чего начать… - ответил классный руководитель, Отто Шпиль.
Он был молодой парень, едва начал преподавать, слишком либеральничал с классом, как я теперь понимаю. Мы любили его,- его все ученики любили. Но не могли же мы ради него одного быть паиньками. В такие минуты, как эта, в кабинете директора, мне было
Две горячие тёлочки отсасывают одному парню и ебётся с ним
Рыжая девушка трахается в поле
Девушка из клининга оказалась красивее фотомодели