Владимир Гельман — о пессимизме, оптимизме и реализме по отношению к авторитаризму в России
https://republic.ru/posts/101232
Владимир Гельман — о пессимизме, оптимизме и реализме по отношению к авторитаризму в России
Книгу «Авторитарная Россия. Бегство от свободы, или Почему у нас не приживается демократия» (выходит в издательстве «Говард Рорк») написал Владимир Гельман, известный российский политолог. В предисловии автор пишет о том, что не имел возможности получить формальное образование в сфере политических наук («Несмотря на это (или благодаря этому?), позднее я стал профессором политологии в двух университетах двух разных стран»). При этом ни один учебник по политической теории Гельман, похоже, не ценит так, как урок, преподанный ему на заре 1990-х в кабинете новоизбранного мэра Ленинграда Анатолия Собчака.
«После казавшегося бесконечным монолога он сделал паузу, и я смог задать вопрос: «Анатолий Александрович, а как вы видите систему власти в городе, которую вы хотите создать?» Собчак наконец повернулся ко мне, словно спустившись с небес на землю, и сменил тон речи на более откровенный: «У нас очень много депутатов городского совета, они шумные и плохо организованные: они должны в основном работать в округах, вести прием граждан и отвечать на жалобы населения. У нас есть горисполком: он должен заниматься городским хозяйством, дорогами, озеленением, протечками, но не выходить за эти пределы. А я (широкий взгляд вокруг кабинета) с помощью моего аппарата (пристальный взгляд на меня) буду проводить политику в городе».
Я был шокирован, услышав столь циничные суждения от человека, который в глазах многих людей воспринимался как символ демократии. «Но ведь это почти то же самое, что было при коммунистах… а как же демократия?»
Он ответил мне четко, с той интонацией, с какой университетские профессора порой сообщают первокурсникам прописные истины: «Мы теперь у власти — это и есть демократия». Это высказывание меня потрясло. Большие надежды на новую демократическую политику разом рухнули. Я понял, что главная цель политиков — это максимизация власти. Иными словами, они стремятся находиться у власти с помощью любых средств так долго, как это возможно, и иметь столько власти, сколько возможно. Спустя шесть лет, в 1996 году он, будучи действующим мэром города, в ходе жесткой борьбы на выборах уступил с небольшой разницей голосов своему заместителю Владимиру Яковлеву. Другой заместитель Собчака, Владимир Путин, тоже кое-чему научился у своего руководителя и использовал его уроки в своей карьере политика. Но эти уроки отличались от моих так же, как политика отличается от политической науки».
В выбранной нами главе (печатается с сокращениями) автор, давно уяснивший для себя разницу между политической теорией и практикой, разбирает позицию тех экспертов, кто даже в текущих условиях отказывается считать проект российской демократии безнадежным.
Главный вопрос, который задают специалисты, исследующие политические процессы в различных странах и регионах мира, можно свести к одному слову: «Почему?» Применительно к анализу российской политики постсоветского периода этот же вопрос можно развернуть следующим образом: почему страна, которая после падения коммунистической власти в 1991 году провозгласила строительство новой демократии, за три десятилетия прошла путь в сторону авторитаризма, претендуя на его сохранение и упрочение на долгие десятилетия вперед?».
Эта шутка, в известной мере не утратившая актуальности и по сей день, сегодня может быть перефразирована в отношении того, как именно российские и зарубежные специалисты дают ответы на вопрос о причинах и следствиях российской политической динамики после 1991 года. В поисках этих ответов одни эксперты становятся «пессимистами», которые склонны искать объяснения в истории и культуре России, другие — «оптимистами», исследующими процессы экономического роста и развития, ну а третьи — «реалистами», чье внимание концентрируется на политике как таковой: на интересах и политических стратегиях акторов, борющихся за завоевание и/или удержание власти.
Нет нужды говорить о том, что антидемократические тенденции в сегодняшней России всячески подпитывают «пессимистические» представления о причинах ее неудач, лишний раз убеждая сторонников этого подхода в собственной правоте. В результате такая точка зрения становится все более устойчивой среди российских интеллектуалов. Но насколько оправданны аргументы тех, кто утверждает: во всех политических бедах России повинно непреодолимое «дурное наследие» ее истории и культуры? Основания для столь безапелляционных суждений выглядят сомнительными.
Во-первых, культурные барьеры на пути становления демократии не так уж непреодолимы: за последние десятилетия политические установки и ценности сильно меняются в разных странах и регионах мира.
Во-вторых, не стоит автоматически проецировать прошлые и нынешние образцы в будущее: даже если предположить, что россияне сегодня менее демократичны, нежели жители этих стран, то отсюда не следует, что точно так же будут обстоять дела через десятилетия.
В-третьих, само по себе «наследие прошлого» — это не столько объективно существующее явление, сколько феномен, специально сконструированный элитами для достижения своих политических целей (очень часто они включают в себя стремление сохранить статус-кво и не допустить демократических преобразований).
В-четвертых, признание неспособности России к демократии может повлечь за собой далеко идущие политические последствия. Если признать, что ту или иную страну невозможно улучшить, поневоле придется прийти к выводу, что единственным решением проблем такой страны может оказаться ее полное уничтожение (подобно судьбе Советского Союза), либо введение на ее территории внешнего управления со стороны других, более эффективных и демократических государств. Нельзя исключить, что рано или поздно именно так и случится с Россией, но пока ни сама Россия, ни другие страны не готовы обсуждать перспективы такого рода.
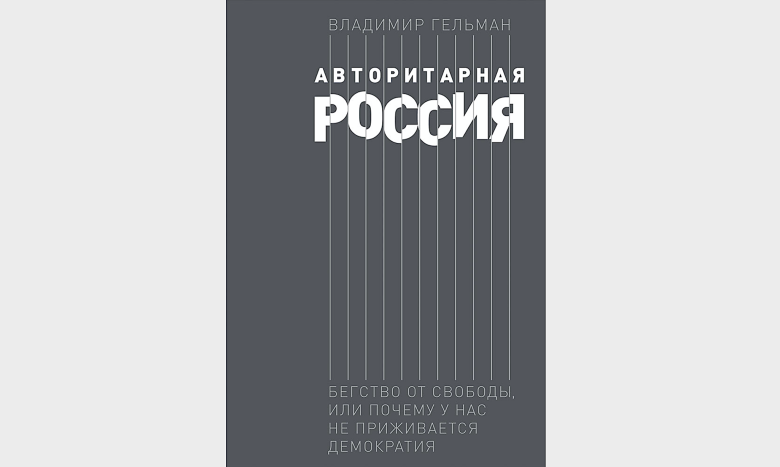
Неудивительно, что историко-культурный детерминизм ряда «пессимистов» воспринимается критически: так, Сергей Гуриев даже сравнил такое восприятие России с расизмом, а автор этих строк в одном из выступлений охарактеризовал эти подходы как «теории сраной Рашки» (намеренно негативное определение, используемое некоторыми комментаторами в отношении России в социальных сетях и на форумах). Историко-культурные обоснования авторитаризма в России (и не только) уязвимы и логически, поскольку они попадают в перечень «остаточных категорий», к которым прибегают тогда, когда не удается что-либо объяснить. Согласно им, демократия в России не может укорениться вследствие неблагоприятного «наследия», а заданная им траектория развития, в свою очередь, не может быть изменена в отсутствие демократии.
Если «пессимисты» видят Россию жертвой неизлечимой болезни «наследия» авторитаризма, то «оптимисты» смотрят на ее проблемы через совершенно иную оптику. Они считают, что Россия — «нормальная страна» с более или менее средними по мировым меркам показателями социально-экономического развития. А если так, то не следует и предъявлять к ней завышенных требований по части демократии, да и слишком переживать из-за ее нынешнего авторитаризма: на свете есть много государств, где дела обстоят много хуже. Если сравнить страны мира с учениками в школьном классе, то в глобальном измерении Россия — явно не «отличница» мировой политики, но и не безнадежная «двоечница». Да, не Дания, но и не Туркменистан, а, скорее, что-то вроде Аргентины, которая в начале ХХ века подавала большие надежды на международное лидерство, но после турбулентного периода с многочисленными сменами режимов от демократий к диктатурам и обратно на нее все более или менее махнули рукой.
С этой точки зрения, Россия — своего рода твердая «троечница», которая худо-бедно справляется с текущими заданиями, но шансов в обозримом будущем кардинально улучшить (как и ухудшить) свою «успеваемость» у нее немного. Такие страны очень чувствительны к негативному воздействию неожиданных внешних шоков, которые могут нанести им травмы, способные надолго ослабить организм. И если для иных стран внешние шоки могут создать стимулы для модернизации, то в других они иногда способствуют упадку, надолго консервируя существующее положение дел.
Если исходить из этих соображений, Россия в процессе распада Советского Союза и после его завершения пережила своего рода посттравматический синдром в ходе «революционной» трансформации. Эти перемены сопровождались очень резким упадком административного потенциала государства и его институтов и даже ставили под вопрос само существование страны как таковой. Независимо от оценок распада СССР и его последствий, невозможно не учитывать, что развитие событий оказалось далеко не худшим из возможных — Россия в 1990-е годы обошлась без войн со своими соседями, и масштаб насильственных конфликтов внутри страны оказался меньше, чем можно было бы опасаться.
Авторитарные тенденции в России служили в 1990-е годы своего рода обезболивающим средством, которое предохраняло страну от полного краха, когда слабое российское государство на фоне очень длительного и глубокого трансформационного спада оказалось неспособно обеспечить устойчивое функционирование экономики и поддержание элементарного правопорядка. С этой точки зрения российский авторитаризм был подобен швам или гипсовой повязке, которые на время позволяли срастись разорванным тканям и давали тем самым травмированному организму время и шансы на то, чтобы укрепить свой потенциал для «выращивания» новых «правил игры», условия для которых возникали в процессе послереволюционной стабилизации. В этом свете авторитаризм в России предстает временным и преходящим явлением, аналогом «болезни роста», которая может надолго затянуться, но в среднесрочной перспективе при умелом лечении преодолима.
Такая интерпретация траектории развития российского государства в постсоветский период имеет под собой немалые основания. Крушение коммунистического режима и распад СССР повлекли за собой фрагментацию государственного устройства и «по горизонтали», и «по вертикали». Многочисленные исследовательские работы отмечали и «захват государства» «олигархами», и спонтанную узурпацию полномочий федерального центра регионами. Ряд регионов тогда представлял собой вотчины субнациональных лидеров. Были и другие патологии — например, вытеснение денежного обращения бартерными суррогатами и поддержание правопорядка с помощью криминальных группировок.
В 2000-е годы, по мере того как российская экономика преодолела трансформационный спад, картина резко изменилась. Российское государство восстановило утраченный административный потенциал, и перечисленные выше явления оказались вытеснены на периферию или встроены в новую институциональную среду. Те же «олигархи» утратили контроль над «повесткой дня» и вынужденно заняли сугубо подчиненное положение в рамках новой системы отношений государства и бизнеса, региональные лидеры лишились многих рычагов власти при принятии решений и оказались в сильной зависимости от федерального центра, многие криминальные группировки были легализованы либо маргинализованы. На этом фоне реализованный в 2000-е годы консервативный сценарий постреволюционной стабилизации, предполагавший усиление авторитарных тенденций, рассматривался как неизбежное временное отклонение от общих тенденций демократизации.
Казалось, он раздвигал для акторов временной горизонт, столь необходимый для успешного «выращивания» новых демократических институтов. Однако на деле усиление российского государства привело прежде всего к усилению чиновников, неподконтрольных обществу и использовавших власть как средство борьбы с политическими противниками и конкурентами в экономике. Многочисленные сопутствующие заболевания российской политики и экономики — способствующие авторитарным тенденциям эффекты ресурсного проклятия (для России — зависимость от экспорта нефти и газа) и чрезвычайно высокий уровень коррупции — лишь усугубляли и затягивали посттравматический синдром, отодвигая перспективы консервативного лечения болезни.

В этих условиях «оптимисты» возлагали надежду на то, что устойчивый экономический рост в условиях авторитаризма может заложить основы для успешной демократизации в процессе смены поколений. Так произошло, к примеру, в Испании в последние десятилетия правления Франко. В 2000-е годы предположения о поэтапной демократизации страны по мере дальнейшего экономического роста казались вполне убедительными. Однако в 2010-е годы эти перспективы оказались исчерпаны, эффекты авторитаризма становились все заметнее, и казались уже не временными «отклонениями» России от магистрального пути перехода к демократии, а фундаментальными основаниями ее политического устройства. На этом фоне сами «оптимисты» меняли свои оценки, со временем становясь все большими «скептиками». [Американский политолог] Дэниел Трейсман, в первой половине 2000-х годов характеризовавший Россию как «нормальную страну», в конце 2010-х анализировал ее политическое развитие как случай «нового авторитаризма» в рамках разработанной им и Сергеем Гуриевым концепции «информационной автократии».
Основаниями для нарастающего скептицизма служит тот факт, что ожидать нового ускоренного роста и развития в 2020-е годы России, по мнению большинства специалистов, заведомо не приходится. Поэтому рассчитывать на естественное преодоление авторитаризма в России в обозримом будущем нет никаких оснований. И даже если в перспективе многих десятилетий, если даже не веков, этот осторожный оптимизм в отношении воздействия экономического роста на политические перемены в России окажется оправданным, сегодня он скорее вызывает в памяти известные стихотворные строки Николая Некрасова: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе».
Слабое звено в рассуждениях «оптимистов» — некритическое восприятие механизмов, посредством которых экономическое развитие и государственное строительство влияют на политические преобразования. Хотя авторитарные тенденции подчас являются атрибутами слабых государств и кризисных экономик, само по себе восстановление административного потенциала государства и экономический рост не ведут «по умолчанию» к становлению демократии. Наоборот, есть основания полагать, что сильное государство и устойчивая экономика (пусть и медленно растущая, но не подверженная катастрофическим спадам, подобным тем, что Россия пережила в 1990-е годы) могут оказаться ничуть не менее опасны для демократии, нежели слабые государства и экономики: в этом случае речь идет о становлении препятствующего успешному развитию государства-хищника (predatory state).
Иначе говоря, российский опыт дает основания предположить, что лекарство от посттравматического синдрома переходного периода в форме сильного, но не подотчетного гражданам авторитарного государства может оказаться гораздо опаснее недугов: при таком лечении «болезни роста» могут быстро и подчас необратимо перерасти в глубокие патологии.
В отличие от «пессимистов» и «оптимистов», которые исходят из того, что политическая динамика зависит исключительно от структурных ограничений, «реалисты», не отрицая их роль, видят мир политики прежде всего как арену борьбы акторов — коварных и циничных политиков, стремящихся к завоеванию и удержанию власти любыми доступными им средствами. Такой взгляд на внутреннюю политику государств отчасти пересекается с «реалистическим» подходом в изучении международных отношений, связанным с анализом борьбы государств в сфере внешней политики, но отличается от него во многих отношениях. Структурные ограничения, по мнению «реалистов», влияют на политическую борьбу акторов, но не служат единственным фактором, определяющим ее исход. В свою очередь, результат этой борьбы в конечном итоге определяет изменения политических режимов (или отсутствие таковых). Сами политические акторы далеко не всегда идейные сторонники диктатур. Они просто вынуждены бороться за политическое (а иногда и физическое) выживание в условиях, когда лишь один из участников конкуренции (в политике, бизнесе или на войне) выигрывает (по принципу «победитель получает все»). Остальные игроки проигрывают и несут те или иные потери (специалисты называют такие исходы «игрой с нулевой суммой»).
В такой ситуации с точки зрения интересов политических акторов идеальным политическим режимом оказывается диктатура (при условии, если они сами выступают в роли диктаторов или хотя бы участвуют в составе правящей «выигрышной коалиции»), а демократия, напротив, явное препятствие для достижения этих целей. Как отмечал [американский политолог] Адам Пшеворский, «демократия — это система, при которой партии (как и любые политики. — В. Г.) проигрывают выборы».

Поэтому многие рациональные политики заинтересованы в том, чтобы создать такие «правила игры», которые максимально облегчат им монополизацию власти и максимально затруднят обретение власти для их конкурентов. Эту логику институционального строительства кратко сформулировал нобелевский лауреат [по экономике] Дуглас Норт: «институты… создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил». Однако одним рациональным акторам удается монополизировать власть всерьез и надолго, а другим нет. В результате становление авторитаризма предстает результатом преднамеренных действий, которые можно уподобить отравлению политического организма. Странам, в которых давно сложились демократические «правила игры», порой удается если не выработать иммунитет к такого рода «отравлениям», то хотя бы минимизировать их негативные эффекты. Даже если в консолидированных демократиях к власти на выборах приходят весьма одиозные и авторитарные политики (подобные тому же Трампу), превратить демократические режимы в авторитарные им, как правило, не удается. Но странам, которые вынуждены создавать свои политические институты «с нуля» (как произошло после краха коммунизма), оказывается куда сложнее выработать эффективное «противоядие» самостоятельно.
В таких случаях авторитарное «отравление» может повлечь за собой устойчивые и длительные негативные побочные эффекты. Со временем в таких странах возникает своего рода «порочный круг»: по мере укоренения авторитаризма снижаются шансы на эффективность «противоядия», выработать иммунитет к «отравлениям» становится все труднее, и в итоге болезнь авторитаризма может так и остаться неизлечимой. В ходе посткоммунистических преобразований в России (и не только) заинтересованные акторы сознательно и целенаправленно выстраивали выгодные для себя «правила игры», сплошь и рядом пытаясь максимизировать собственную власть и создать для своих конкурентов непреодолимые препятствия.