В осеннем лесу грешница осталась абсолютно голая
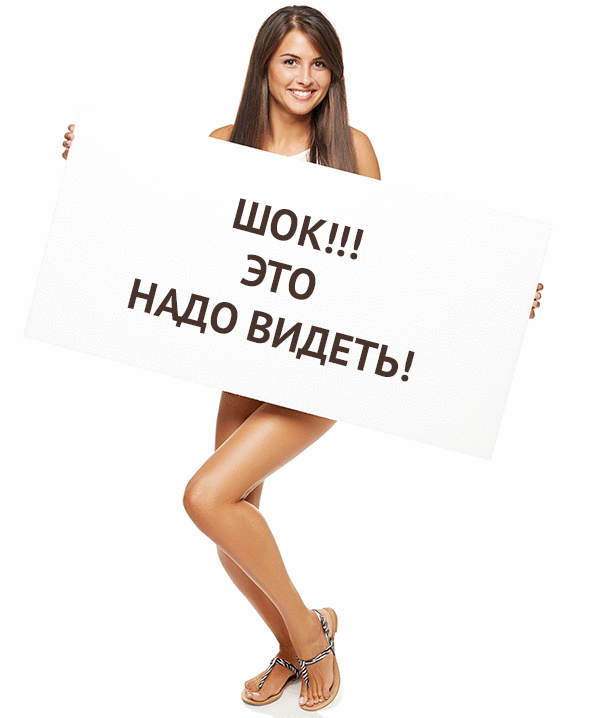
⚡ 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
В осеннем лесу грешница осталась абсолютно голая
...Все сказанное... написано мною вполне искренно, без всякой предвзятой мысли во что бы то ни стало унизить или подорвать. На склоне лет охота к преувеличениям пропадает, и является непреодолимое желание высказать правду, одну только правду.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина
Серое однообразие кино не в силах дать даже представления о своеобразной красоте острова. Да и словами трудно изобразить гармоническое, но неуловимое сочетание прозрачных, нежных красок севера, так резко различных с густыми, хвастливо яркими тонами юга; да и словами невозможно изобразить суровую меланхолию тусклой, изогнутой ветром стали холодного моря, а над морем – густо-зеленые холмы, тепло одетые лесом, и на фоне холмов – Кремль монастыря. С моря, издали, он кажется игрушечным. С моря кажется, что земля острова тоже буйно взволнована и застыла в напряженном стремлении поднять леса выше – к небу, к солнцу. А Кремль вблизи встает, как постройка сказочных богатырей, – стены и башни его сложены из огромнейших разноцветных валунов в десятки тонн весом. Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной – огромный пласт густой зелени, и в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер; таких зеркал несколько сот, в их спокойно застывшей, прозрачной воде отражены деревья вершинами вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море. В безрадостной его пустыне земля отвоевала себе место и непрерывно творит свое великое дело – производит «живое». Чайки летают над морем, садятся на крыши башен Кремля, скрипуче покрикивают.
«Мороз крепчал...» – так, по Чехову, полагается начинаться дамскому рассказу.
Было 18 января 1929 года. Когда я в шестом часу вечера, возвращаясь из школы с портфелем под мышкой, по Литейному мосту переходила Неву, у меня коченели пальцы, и я заметила, что не надела перчаток. Пошарила в карманах – их там не было; так и есть: забыла, значит, в школе!
На минуту остановилась, подумала: не вернуться ли за ними? Но половина моста уже была пройдена, и я решила идти дальше без перчаток, только поджала пальцы в кулаки и глубже засунула руки в карманы.
– Не беда, если перчатки переночуют до завтра в учительской...
Прежде чем повернуть к дому, зашла на Пантелеймоновскую к Лору за черным заварным хлебом и белым батоном. Пока продвигалась в очереди к кассе, загляделась на не убранную еще рождественскую выставку на окне – марципановые поросята особенно понравились; жаль, что не купила таких к елке Наташе и Нине, а теперь уже не стоит...
Заметила в очереди впереди себя Л. П. Трейфельдт. Она подождала меня, и мы вместе вышли из магазина. Я спешила домой: в руках был пакет, и их уже нельзя было прятать в карманах. У Фурштадтской мы расстались. Я торопливо крикнула:
– До завтра в школе! – и побежала через улицу.
Дома дети уже три дня были в постели: Нина заболела корью, а так как доктор ручался, что корь Наташе тоже обеспечена, я не только не отделила ее, но при первом случайном повышении температуры уложила в постель рядом с Ниной. Поэтому последние вечера я совсем не бывала в своей комнате, а проводила их с детьми в спальне Нининых родителей.
Я сама виновата в том, что дети, оставаясь со мной, всегда требовали сказок: я обычно охотно их рассказывала. Но в предыдущие вечера столько их уже было пересказано, что даже мне они надоели.
– Давайте-ка сегодня я расскажу вам лучше что-нибудь из своей жизни; например, как я ездила на Соловки.
– На Соловки?! – отозвалась из столовой Нинина мама. – Это и я охотно послушаю. Вы ведь туда еще на богомолье ездили, а у нас сейчас там друзья, которые попали туда не по своей воле. Интересно от очевидцев послушать про те места.
– В таком случае, я могу сделать целый доклад с иллюстрациями – ведь у меня много соловецких фотографий. Сейчас я их принесу, – сказала я и побежала в свою комнату.
...Я сидела между кроватями и, показывая фотографии Кремля, Секирной горы, Анзерского скита и другие, рассказывала о Соловках. Я сейчас мало помню, что я говорила. Говорила о белых ночах, о чайках, о колокольном звоне, который так далеко разносится по воде, что его слышат с парохода, когда еще не видно ничего, кроме моря и неба... О сказочно красивом Кремле, напоминающем издали остров князя Гвидона, о лисицах и зайцах, которые не боятся людей, потому что за ними там никто никогда не охотится.
В столовой вскипел электрический чайник – и доклад пришлось прекратить.
Мы напоили девочек чаем, оправили их постельки, помогли им умыться на ночь и, погасив свет, оставили одних. Однако они на этот раз не хотели засыпать, а Наташа то и дело требовала меня к себе под всякими предлогами.
У меня в комнате сидела Аля; я не говорила об этом детям, чтобы не разгулять их окончательно, и только ворчливо сторожила их, призывая к тишине и порядку.
Когда все более или менее уважительные требования Наташи были удовлетворены («горшочек», «поцеловать»), я категорически заявила, что к ней больше не приду:
– Лучше и не зови, а постарайся скорее заснуть. Ты и Ниночке мешаешь спать...
Но не тут-то было. Только я присела рядом с Алей на кушетку, как из соседней комнаты снова понеслись настоятельные призывные крики:
– Я сказала, что не приду! Все, что тебе могло быть нужно, я уже сделала, больше тебе незачем меня звать...
– Нет, есть зачем! Нужно! Необходимо!
– Мне нужно сказать тебе один секрет...
– Нельзя до завтра! Необходимо сейчас!
– Спать, спать, и никаких разговоров: все секреты завтра!
Я встала. Пожалуй, она права: пусть уж скажет свой секрет и успокоится.
– Ну, говори скорее – и я уйду, – сказала я, подходя к ее кровати.
Она обвила ручонками мою шею и сказала раздельно:
– Дай и твое ушко. И я... тебя... тоже, – сказала я, смеясь. Мы нежно расцеловались.
– Ну, теперь будешь спать? – спрашивала я, поправляя ее одеяльце и крестя ее.
– Наклонись, я тебя тоже хочу перекрестить.
– И я, и я! – вдруг завопила Нина из своей кроватки. – Подойдите ко мне, и я тоже хочу вас перекрестить!..
Получив их двойное благословение, я вышла наконец и прикрыла за собой дверь.
...Не знала я, не чувствовала в ту минуту, что простилась с ними на годы...
– Не подумай, пожалуйста, – сказала я Але, – что у нас так каждый вечер: это они только сегодня почему-то никак не могут расстаться со мной.
– Завтра ведь придет молочница, а ты опять не принесла бидона, чтобы я могла взять молока и для вас, – сказала я, прощаясь с нею.
– Ну смотри же, не забудь. Спокойной ночи. До завтра.
– До завтра! – ответила она, целуя меня, и исчезла за дверью.
Это злополучное «завтра», столько раз поминавшееся мной в течение предыдущего дня, я встретила в совсем новой, необычной обстановке, о которой мне и не грезилось накануне, прочно и надолго оторванной ото всех и от всего, чем я жила и что любила.
Если человеку дано чувствовать и думать в гробу под свежей насыпью, он, верно, испытывает то же, что я испытывала в утро 19 января 1929 года. И, вероятно, он так же, как и я в то утро, еще не вполне понимает, что его вчерашний день уже стал недосягаемо далеким, навсегда утраченным прошлым: Quand on est mort, c’est au moins pour long temps, si ce n’est pour toujours 249 . A самое важное и большое как-то беспорядочно еще путается в голове с мелочами вчерашнего дня: не затеряются ли перчатки в школе, не забудет ли Аля зайти за молоком?.. А в деревянной желтой картонке вчерашний заварной хлебец и батон от Лора. Еще мелькают в памяти симпатичные марципановые поросята, последнее, что я видела на воле вне дома. А что последним я видела дома?
Груда бумаг на ковре, распахнутые шкафы, выдвинутые ящики комода и письменного стола, а на столе – пачка соловецких фотографий... Как пророчество? Или – как злая ирония?
Да, ночь была отнюдь не «спокойная». О ней трудно думать, трудно вспоминать в какой-нибудь логической последовательности. И сейчас я не стану ее описывать.
Навсегда врезались в память отдельные фразы: «Что за нелепая идея воспитывать чужого ребенка? Во всяком случае, сюда вы больше не вернетесь: мы вас сошлем в концлагерь или (веселая улыбка, предваряющая шутку)... или – рас-стре-ляем...», «...Можешь не торопиться, извозчик: все равно дальше ДПЗ никуда не поедем...», «Крестик может остаться на вас: мы крестов не отбираем».
И новый, незнакомый, четкий и резкий звук отпираемых и запираемых замков.
Была суббота. Вероятно – библиотечный день, потому что мне принесли две книги. Сейчас я помню только одну из них, трактовавшую, по странной иронии судьбы, закон о личной неприкосновенности в Англии. Это была популярная агитационная брошюрка эпохи 1905 года, издания «Донской речи»; юридические положения иллюстрировались в ней примерами из жизни. Мне запомнился случай с мальчиком – сапожным учеником, задержанным полицией без достаточно уважительных оснований. Его отпустили через несколько часов, и, хотя в эти часы он находился в лучшем помещении, чем у себя дома, и питался лучше, чем дома, полисмена, задержавшего его, приговорили к штрафу в пользу мальчика, равному годовому заработку этого мальчика.
– Эх! Вернуться бы сегодня домой с приплатой моего годового заработка!
Но домой я не вернулась – ни в тот день, ни на другой, ни на третий... А в комнату на Фурштадтской вообще никогда больше не вернулась – в этом мой ночной гость оказался прав.
Пробыв в тюрьме около семи месяцев – сначала в одиночке, потом в общей камере, я получила приговор: три года концлагеря.
7 августа 1929 года вместе с большой партией своих «однодельцев», с которыми я впервые познакомилась в тюрьме (а с некоторыми успела за это время и близко сойтись), была отправлена в Кемь, а оттуда переброшена на Соловки.
Но о том, как я там жила и чему мне довелось быть свидетельницей как на пути туда и обратно, так и за время моего пребывания там, рассказано в следующих за этим кратким вступлением, правда, довольно случайных и неполных, моих набросках, объединенных под общим заглавием «Авгуровы острова». Наброски эти, несхожие между собой по форме, содержанию и объему, совпадают, однако, в одном: в единстве времени и места всех описываемых в них эпизодов. А именно: место действия – крохотная, как мушиное пятнышко, точка на карте Белого моря – остров Анзер; время действия (если не считать экскурсов в прошлое некоторых действующих лиц) тоже весьма малопротяженно – с августа 1929 года по 1 января 1931 года, то есть неполных два года. Таким образом, очерки эти приоткрывают очень узкую щель в наше недавнее прошлое – но ведь иногда и в самую узкую щелку можно подглядеть многое.
Нужно больше полугода просидеть в четырех стенах тюремной камеры, чтобы понять, что испытала я утром 8 августа, когда с рассветом увидела из окна столыпинского вагона небо, деревья, траву, цветы, людей, свободно работавших в поле, лошадей, собак, птиц. Окно было не из купе, а в коридоре – против купе, но стенка, отделившая купе от коридора, была сквозная – решетчатая, и я, взгромоздившись на свой чемодан, поставленный на скамейку, чтобы лучше видеть, не отрываясь смотрела на мелькавшие за окном леса, поля и рощи, радуясь каждой рябине, каждому ракитовому кусту, каждой ласточке и сороке. Нас было в купе десять или одиннадцать женщин, все – «одноделки», товарки по заключению. Было тесно и душно, но настроение у всех было бодрое и даже веселое. Все оживленно разговаривали, завели знакомство с конвойным, стоявшим на часах против нашей двери, – молодым и добродушным деревенским парнем. Он вскоре приручился, стал передавать записки из одного купе в другое, а на станциях бегал по нашим поручениям в буфет и приносил консервы и бутылки лимонада.
День выдался необычайно знойный, и жара в вагоне становилась все нестерпимее. Изнемогая от жары, мы постепенно разоблачались до предельной возможности.
– Не думаете ли вы, что машинист ошибся направлением и везет нас вместо севера на юг? Жара с каждым часом все ближе к тропической.
– Как перевести на русский язык Chateau Yquem! 250 – спрашивали они в следующей записке. И сами следом за нею прислали перевод: «Дворец и крепость – Шато и Кемь» («Дворец и крепость» было заглавием модного тогда фильма).
Это уже походило на игру в Secretaire 251 ...
– Браво! – кричали дамы. – Автора! Автора! (Автором оказался профессор Смирнов, которому в недалеком будущем, как и еще нескольким нашим спутникам, суждено было умереть от сыпного тифа; тогда этого никто из нас не предвидел.)
Я не отводила лица от проволочной решетки.
– Не понимаю! – возмущенно говорила одна из наших «ученых женщин». – Как можно до такой степени неотступно созерцать этот монотонный пейзаж! Я и сама очень люблю природу, однако – воля ваша – всему есть граница!
Я ничего ей не ответила, только мысленно огрызнулась:
– А кто тебе сказал, что я люблю природу? Любят природу только сентиментальные институтки да чеховские барыни, а я, слава Богу, не принадлежу ни к тем, ни к другим.
Жара не уменьшилась и на следующий день. Но пейзаж за окном стал более типичным. Теперь уже, несмотря на тропическую температуру, нельзя было сомневаться в том, что мы все же едем на север: гранитные глыбы, «бараньи лбы», поросшие мхом и лишайником, торфяные болотца, пестревшие шелковистой пушицей, карликовые березки и тощие сосенки, поля вереска и иван-чая... Только тут я впервые поняла, осмыслила, что еду в родные моему сердцу места, которых я не видела более десяти лет. И сразу же, как только я это осмыслила, из моего сознания выпали и мои спутники, и конвой, и только что пережитые полгода тюремного заключения, и, наоборот, как совсем недавнее и живое, встали передо мной мои княжегубские, ковдские, кандалакшские и соловецкие воспоминания...
Вспомнился и наш последний – последний в жизни – разговор с другом моим Талей в августовский вечер 1917 года, накануне моего отъезда из Княжой.
– Мы еще вернемся сюда когда-нибудь, – сказала она, – через несколько лет, хочешь?
– Это будет презабавно: приедем налегке, туристками, по железной дороге, но уже не в теплушке и не на тормозе товарного вагона, а в «международном спальном» – с вагоном-рестораном и всевозможным комфортом. Приедем и пойдем бродить по нашим излюбленным местам: на гору, в лес, по тропинке на скалы. А вечером возьмем лодку и поедем на остров.
На другое утро мы расстались, а спустя несколько месяцев ее не стало.
...И вот, через двенадцать лет, я еду по этому пути, но – одна, без Тали, и не в «международном», а в «столыпинском» вагоне, о котором я тогда не имела и представления.
Словно очнувшись, я оглянулась вокруг себя, на своих спутниц, на конвойного, на забранное решеткой окно – и вдруг что-то подступило к горлу, и нежданные, непрошенные слезы врасплох хлынули из глаз горячим потоком.
В первый раз со дня своего ареста я обрела способность плакать – и плакала стихийно, неудержимо, как стихийно, неудержимо несутся из-под внезапно вскрывшегося льда вешние воды.
Мне было неловко и неприятно привлекать к себе общее внимание, но я уже не властна была ни остановить этот прорвавшийся поток, ни подыскать ему какое-нибудь понятное объяснение. И в то же время я испытывала, как постепенно мне теплее и легче становилось на сердце, точно, благодаря этим обильным, безотчетным слезам, смягчалось и разряжалось мучительное-напряженное душевное оцепенение, так долго мной владевшее, – и я опять нашла себя, свою подлинную, неизменную сущность.
Я и заснула в тот вечер в слезах и спала, несмотря на неудобство позы, крепко и мирно до самого утра.
Утром 11 августа наш поезд прибыл в Кемь. Больше двух тысяч человек (где-то в пути к нам присоединили еще и московский этап) вышли из вагонов на платформу.
Нас построили длинной шеренгой – по пяти в ряд – и повели на территорию лагеря – к самому Белому морю. Оно было все то же – необъятно широкое, спокойное и ясное, каким я его чаще всего помню, чуждое суетным земным будням, безмятежно отражающее нежные и улыбчивые краски северного небесного свода.
На фоне этой исключительно гармоничной по своему колориту декорации должна была происходить церемония нашего первого «боевого крещения»: сопровождавший нас конвой сдавал нас с рук на руки лагерному начальству.
Низкая и широкая песчаная полоса у самой воды была на большое расстояние оцеплена колючей проволокой, а внутри разгорожена на две части. Всех мужчин загнали в левую часть и построили рядами, а женщинам велели сесть на камни по эту сторону проволоки и ждать своей очереди.
Мы разместились амфитеатром – лицом к морю – и молча наблюдали картину приемки вновь прибывшей партии.
На берегу было много военных в гэпэушной форме. Они производили сейчас перекличку по спискам, прибывшим в лагерь вместе с нами, как прибывают в адрес назначения накладные вместе с товаром.
Понуро, серым стадом, стояли усталые, изнуренные люди – в большинстве, по-видимому, уголовники. Каждый, услышав свою фамилию, должен был выкрикнуть в ответ имя и отчество и, подхватив вещи, без промедления перебежать из левой части загона в правую.
Командиры энергично орали, матерно ругаясь и поощряя замешкавшихся то кулаком по шее, то затрещиной по затылку, то пинком ноги в спину.
Мы сидели окаменевшие, совершенно потрясенные унизительным зрелищем, к которому мы совсем не были подготовлены предшествовавшим обращением с нами в тюрьме и на этапе.
– Все-во-лод Вла-ди-ми-ро-вич, – раздельно и отчетливо произнес знакомый голос, и, подняв свой чемодан, Бахтин прошел в правую половину загона.
Я услышала за своей спиной глубокий облегченный вздох:
–... И что их не посмеют ударить, – подумала я и вдруг почувствовала, что уже снова теряю всякое самообладание: обретенная мною в поезде способность плакать и, видно, только и ждала первого случая, чтобы прорваться с новой силой. Но на этот раз это были уже не те – первые благодатные, умиротворяющие слезы, это была почти истерика. Напрасно я щипала себя, кусала себе пальцы, тщетно силясь побороть этот нервный припадок, – ничто не действовало. По счастью, я сидела впереди всех – у самой проволоки – спиной к своим спутницам, и они или не видели того, что происходило со мной, или сами слишком потрясены были происходившим, чтобы уделить мне внимание, – никто не смотрел на меня, и я надеялась, что мое позорное поведение оставалось необнаруженным.
Мимо меня, вдоль проволоки ходил взад и вперед рослый молодой часовой с суровым лицом. Каждый раз, поровнявшись со мной, он, не глядя в мою сторону и все с тем же каменным выражением лица, бормотал себе под нос:
– Не надо плакать... Здесь не так плохо, как это кажется с первого раза... Не надо плакать...
Еще продолжая судорожно всхлипывать, я с изумлением прислушивалась к этим словам утешения, долетавшим до меня с совершенно неожиданной стороны.
Перекличка мужчин окончилась, и их увели куда-то. Арена опустела.
Один из командиров – рыжий и плотный молодой человек с оттопыренными красными ушами и серыми навыкате глазами, вытирая лоб носовым платком, как после тяжелой работы, подошел к проволоке, у которой мы сидели, и почти галантно, совсем не тем голосом, каким он только что выкрикивал трехэтажные ругательства, поздоровался с нами и стал расспрашивать, откуда мы и по какой статье и так далее.
– Ну конечно, по 58-й, в этом никто не сомневается. Я сам по 58-й. Вы, кажется, удивлены. Вас, по-видимому, смутил мой мундир и мое поведение во время приемки? Да, ведь вы – новички и еще не разбираетесь в нашем быте. Ведь здесь – самообслуживание и самоуправление в полном значении этих слов: все должности, включая и административные, и надзор, и охрана – возложены на заключенных, даже начальники, кроме самых высших, – тоже заключенные, и все несут ответственность за всех. Этот мундир и это поведение на плацу, которому вы только что были свидетельницами, – не более как защитная форма: если бы я вел себя иначе – давал поблажку, я бы сам угодил отсюда в какую-нибудь штрафную роту: ведь я такой же подневольный заключенный, как и все здесь, и так же, как и все, нахожусь под бдительным перекрестным наблюдением. Впрочем, вы не падайте духом заранее: здесь вовсе не так уж плохо, как это могло вам показаться поначалу, только первые две недели вам придется побыть на так называемых общих работах, а затем вы все, наверное, получите занятия по своим специальностям – здесь находит большое применение интеллигентн
Телочка в джинсовой юбке раздвинула, ноги сидя в кресле
Мамаша с темными волосами отсасывает хер кавалера и долбит с ним в очко | порно видео
Аппетитные лесбиянки с огромными дойками балуются друг с дружкой на постели