Туристка приехала в Барселону трахаться с фотографом на улице
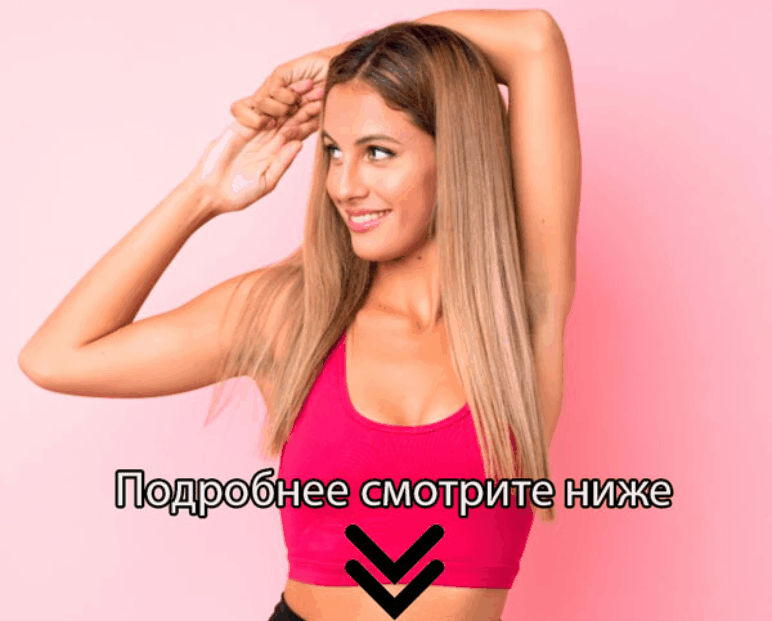
🛑 ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Туристка приехала в Барселону трахаться с фотографом на улице
Звоните +7-915-206-28-86 (с 10:00 до 20:35)
Внимание : если Narod прикажет долго жить, переходите на мой дублирующий сайт по адресу best-repetitor.jimdo.com
Раньше быть англичанином было так просто. Из всех народов на земле узнать англичан было легче всего — и по языку, манере вести себя и одеваться, и по тому, как они ведрами пили чай.
Теперь все намного сложнее. Если мы по воле случая встретим человека, твердо сжатые губы, в меру дорогая обувь и домашний вид которого будут выдавать в нем англичанина, нашей первой реакцией станет удивление: ведь условности, характерные для англичан, канули в Лету, и, похоже, страну больше представляют певцы или писатели, а не дипломаты или политики.
Англичане времен империи имели британские паспорта — как и шотландцы, валлийцы и часть ирландцев, — но им не было нужды задумываться над тем, одно и то же быть «англичанином» и «британцем» или нет: эти термины были, в сущности, взаимозаменяемы. Сегодня ничто так не выведет из себя шотландца, как неточное употребление этих двух понятий, потому что кельтские соседи Англии все больше выступают самостоятельно. Как этого и следовало ожидать, о выборах в мае 1999 года в новый Шотландский парламент и Национальное собрание Уэльса, которые якобы укрепляют союз, больше всего трубила лейбористская партия (которая придумала и саму идею делегирования прав национальным парламентам). Возможно, это и так. Однако все, безусловно, переменилось. По крайней мере, Шотландия всегда была отдельной нацией, сохранившей свою систему законов и образования, гражданские и интеллектуальные традиции. Теперь у нее собственное правительство, и трудно представить политическое образование, которое после предоставления ему власти не захочет большего. Эти изменившиеся отношения стали отражаться и в языке. Если год-два назад о событиях в Шотландии говорили как о региональных, сейчас о них все чаще упоминают как о «национальных». Би-би-си даже выпустила инструкцию для сотрудников о том, что больше недопустимо называть Уэльс княжеством.
К тому же существует проблема Европы. Кто знает, к чему приведут коллективные амбиции или заблуждения, охватившие европейскую политическую элиту? Если все закончится успешно, то при Соединенных Штатах Европы Соединенное Королевство станет чем-то лишним.
Существует и разъедающее понимание, что ни Британии, ни любой другой стране в одиночку не справиться с притоками и оттоками капитала, а ведь это определяет, будут ли отдельные граждане сыты, или им нечего будет есть. В каждой стране основной заботой правительства все в большей степени становится культурный уровень своих граждан.
Эти четыре составляющие — конец империи, так называемое Соединенное Королевство, которое трещит по швам, давление на англичан, чтобы заставить их окунуться в Европу, и бесконтрольность международного бизнеса — заставляют задуматься: а что значило раньше быть англичанином?
Хотя все эти вопросы связаны с политикой, данная книга не о политике в узком смысле слова. Я решил попробовать докопаться, в чем истоки сегодняшнего беспокойства англичан о самих себе, и с этой целью совершить экскурс в прошлое, к тому, что создало мгновенно узнаваемый образ идеального англичанина и англичанки, которые несли свой флаг по всему миру. А потом попытался выяснить, что с ними стало теперь.
Определить некоторые из этих воздействий оказалось относительно несложно. Очевидно, одно из них то, что англичане живут на острове, а не на материке. Они родом из страны, где протестантская реформация твердо определила место церкви. Они унаследовали твердое убеждение в индивидуальной свободе каждого.
Другие влияния представляются более трудно понимаемыми. Почему, например, англичанам, похоже, нравится чувствовать себя такими гонимыми? Что стоит за английским увлечением играми? Каким образом у них выработалось такое странное отношение к сексу и пище? Откуда эти их невероятные способности к лицемерию?
Я искал ответы на эти вопросы, разъезжая по стране, разговаривая с людьми и читая книги. Прошло несколько лет, я стал чуть мудрее, и у меня теперь другой набор вопросов.
И еще я только что заметил, что пишу об англичанах «они», хотя всегда считал себя одним из них. Эти англичане непостижимы до последнего!
Спросите любого человека, кем по национальности он предпочел бы быть, и девяносто из ста ответят — англичанами.
Когда-то англичане знали, кто они. Для этого всегда был наготове целый набор определений. Они вежливы, невозмутимы, сдержанны, и половую жизнь им заменяли бутыли с горячей водой: каким образом они заводили потомство, оставалось тайной для всего западного мира. Больше писатели, нежели художники, садовники, но никак не повара, они предпочитали действовать, а не размышлять. Их отличала классовая принадлежность и ограниченный кругозор, и они не могли выражать свои эмоции. Они выполняли долг. Их почти непостижимая стойкость вошла в пословицу. «Боже, у меня нет ноги!» — восклицает лорд Эксбридж под разрывы гранат на поле Ватерлоо. «Боже, что вы говорите!» — молвит в ответ герцог Веллингтон. Как гласит предание, от смертельно раненного солдата, лежащего в залитом водой окопе во время битвы при Сомме, можно было лишь услышать, что он «не должен жаловаться». Главное его достоинство — чувство чести. Они были надежны, и им можно было доверять. Слово английского джентльмена приравнивалось к документу, подписанному кровью.
1945 год. Война, которая, казалось, никогда не кончится, уже позади. Теперь все население Британии, просыпавшееся с мыслью о ней, может вздохнуть спокойно. В кварталах промышленных городов зияющие провалы рухнувших домов напоминают о рейдах «люфтваффе». В городках, оставшихся сравнительно незадетыми, на главной улице лепятся друг к другу, как в складной головоломке, витрины магазинчиков, большей частью мелкие частные предприятия, ведь англичане, по известному язвительному определению Наполеона, «une nation de boutiquiers» - нация лавочников. Работает обширная сеть розничной торговли, которая через несколько десятилетий вытеснит частных торговцев, но если вы зашли в одну из аптек фирмы «Бутс», то, вполне вероятно, чтобы купить продукцию для здоровья и красоты. Вечером можно сходить в кино.
Есть все основания согласиться с Черчиллем в том, что Вторая мировая война стала «блистательным часом» для его страны. Он вел речь о Британии и Британской империи, но ценности этой империи — это ценности, которые, по привычному представлению англичан, придумали они сами. Несомненно, во время войны и в первое послевоенное время англичане последний раз на памяти живущих имели четкое и положительное представление о том, кто они. Для них это отразилось в таких фильмах, как «Где мы служим», романизированном повествовании Ноэля Кауарда о гибели эсминца британских ВМС «Келли», потопленном немецкими пикирующими бомбардировщиками. Лежа в спасательном плотике, уцелевшие члены команды вспоминают историю своего корабля. На самом же деле они вызывают в памяти картину могущества Англии. Пусть капитана и личный состав разделяет акцент, с которым они говорят, объединяет их главное – вера в то, что представляет собой их страна. В ней все упорядочено и подчинено строгой иерархии, и война - это неудобство, как дождь в разгар сельской ярмарки, тут уж ничего не попишешь. Это страна, где люди строги и привыкли в чем-то себе отказывать, где женщины знают свое место, а дети, когда им говорят, что уже пора, покорно и тихо идут спать. «Успокойся, — говорит одна домохозяйка другой во время авианалета, - еще минута-другая, и выпьем чаю». Теща, провожающая унтер-офицера ВМС, спрашивает, когда он вернется.
- Все зависит от Гитлера, — отвечает он.
- Послушай, что он вообще о себе возомнил?
«Там, где мы служим» - беззастенчивая пропаганда для людей, стоящих на пороге возможного исчезновения своей культуры, и по этой причине фильм очень показателен: становится ясно, какими хотят видеть себя англичане. На основе этого и многих других подобных фильмов составляется картина стоически переносящего испытания, привязанного к родному очагу, спокойного, дисциплинированного, самоотверженного, доброго, великодушного и обладающего чувством собственного достоинства народа, который предпочел бы infinitely (как антоним к definitely?) ухаживать за своими садиками, а не защищать мир от фашистской тирании.
Infinitely — без конца (англ.).— Здесь и далее примеч. пер.
Definitely — определенно ( а нгл.).
Я всю жизнь прожил в той Англии, что восстала из-под нависшей над ней тени Гитлера, и должен выразить восхищение перед тем, какой она, похоже, была в те годы, невзирая на всю ее ограниченность, лицемерие и предрассудки. Вступив в войну, в которой, как ей неоднократно обещалось, она не должна была участвовать, страна на целые десятилетия ускорила потерю своего выдающегося положения в мире. Те, кто пытается переписать историю, утверждают, что многое из того, что считается успешными действиями британцев, во время войны выглядело далеко не так. Конечно же, англичане яростно цепляются за выдумки о героизме на этой войне, самые любимые из которых «малый флот» при Дюнкерке, победа «немногих» в «битве за Англию», а также мужество жителей Лондона и других городов во время «блица». Хорошо, роль «малого флота» преувеличена, «битва за Англию» выиграна благодаря и просчету Гитлера, и героизму «немногих» - летчиков-истребителей, а во время «блица» нам помогли выстоять отчаянные и беспощадные ответные налеты английских бомбардировщиков на Германию. Пусть заведомо ложны заявления о том, что англичане выиграли войну в одиночку: чтобы убедиться в этом, достаточно почитать об отчаянных усилиях Черчилля добиться вступления в войну Америки. Но факт остается фактом: летом 1940 года страна действительно выстояла в одиночку, и если бы не она, нацисты подмяли бы под себя остальную Европу. Если бы не огромное преимущество географического расположения, то, возможно, как и в остальной Европе, от Франции до Балтийского моря, в стране нашлись бы те, кто готов был действовать по указке нацистов. Однако география штука немаловажная: характер людей зависит о того, где они живут.
Сколько раз предпринимались попытки объяснить, чем стала Вторая мировая война для Британии? Тысячу раз? Десять тысяч? Однако ни одна не сумела подорвать уверенность в том, что в этой титанической борьбе англичане прекрасно понимали, за что сражаются и, соответственно, что они за люди. В отличие от гордости Гитлера за свой фатерлянд, это чувство было не таким масштабным, что ли, более личным и, как мне кажется, не таким демонстративным, но более сильным. Возьмите «Короткую встречу» — рассказ Дэвида Лина 1945 года о запретной любви. Двое встречаются в привокзальном буфете, где она ждет пригородный поезд, чтобы вернуться домой после похода по магазинам. В глаз ей попадает частичка угольной пыли, и галантный местный доктор, даже не представившись, приходит ей на помощь и удаляет пылинку. Последующие восемьдесят минут прекрасного фильма — это рассказ о том, как они все больше влюбляются и какое чувство вины каждый при этом испытывает. Тревор Говард, высокий и худощавый, с крупным носом и выдающейся челюстью, курносая и ясноглазая Селия Джонсон, казалось бы, воплощают собой идеальных англичанина и англичанку. Они порождение бесконечно респектабельного среднего класса, и при узости заведенного в нем порядка вещей «прилесным девушкам» хочется лишь стать «диствитильно щисливыми».
Доктор начинает ее соблазнять в классическом английском гамбите - заговаривает о погоде. Чуть позже он уже говорит о музыке. «Мой муж не любитель музыки», - замечает она. «Ну и молодец», — отзывается доктор. Ну и молодец? Причем здесь «ну и молодец»? Звучит так, словно тому удалось побороть смертельную болезнь. «Ну и молодец», конечно же, потому, что так признается уготованное Богом право на мещанство и добродетель отдельных личностей, которые занимаются у себя дома чем им угодно. Так и развивается их знакомство на фоне звучащего то и дело Второго фортепьянного концерта Рахманинова, и время измеряется количеством чашек чая, выпитых в зале ожидания на вокзале в Милфорде. Муж Селии Джонсон из тех, кто называет жену старушкой, а свои чувства выражает приглашением разгадать вместе кроссворд в газете. «Наверное, живи мы в теплых и солнечных краях, все мы были бы другими, — задумывается она однажды про себя. — Мы не были бы такими замкнутыми, стеснительными и тяжелыми людьми». Как англичанка, она не испытывает неприязни к мужу, считая его «добрым и лишенным эмоций». В ловушку такого же брака без любви попал и Тревор Говард, который тоже относится к жене и детям без враждебности. Однако и он, и Селия Джонсон охвачены страстью такой силы, что еле сдерживаются. «Нам следует быть благоразумными, — таков их постоянный рефрен. — Если вести себя сдержанно, то еще есть время».
В конце концов, несмотря на все заверения в вечной преданности, их любовная история так ничем и не заканчивается. Он поступает здраво и уезжает в Южную Африку работать в больнице, а она возвращается к своему благопристойному, но скучному мужу. Конец фильма.
Что говорит об англичанах этот самый популярный английский фильм? Во-первых, как гласит бессмертное речение, «не для веселья мы на земле живем». Во-вторых, как важно для них чувство долга: в то или иное время военную форму носила большая часть взрослого населения. Тревор Говард был лейтенантом Королевских войск связи, и для паблисити киностудии приписывали ему целый ряд просто-напросто выдуманных актов героизма. Селия Джонсон служила во вспомогательном корпусе полиции: оба знали все о том, как удовольствия приносятся в жертву чему-то более высокому. Самое главное: эмоции даны, чтобы их контролировать. Дело было в 1945 году. Но это вполне могло произойти и в 1955 или даже в 1965 году. Могла измениться мода, но погода оставалась сырой,а полицейские - такими же добродушными. Несмотря на послевоенную политику «государства всеобщего благосостояния», в этой стране каждый знал свое место. Люди в форме все так же привозили на тележках и ставили у дверей молоко и хлеб. Что-то было принято делать, а что-то не принято.
Кто-то может предположить, что это были благопристойные люди, и трудились они, сколько было нужно для удовлетворения сравнительно скромных амбиций. Они же привыкли представлять, что на них напал враг, что они держатся под его огнем и храбро противостоят ему. Это картина сражения при Ватерлоо, когда британские войска отражают решительную атаку французов, или купол собора Святого Павла в дыму и пламени от взрывов немецких бомб. В них было глубоко заложено понимание своих прав, но в то же время они могли с гордостью сказать, что их «не очень-то волнует» политика. Полный провал как левых, так и правых экстремистов на выборах в Парламент свидетельствует о том, с каким глубоким скептицизмом они воспринимают обещания земли обетованной. И действительно, они были сдержанны и склонны к грусти. Но ни в одном имеющем значение смысле они не были людьми религиозными, потому что англиканская церковь — изобретение политическое, и из-за этого определение «добрый малый» стало чем-то вроде канонизации. Они допускали, что веруют, в случаях, когда это было необходимо по требованиям бюрократии, могли поставить в нужной графе «С of E», то есть англиканская церковь, зная, что их не будут беспокоить требованиями посещать церковь или отдавать все, что есть, бедным.
В 1951 году газета «Пипл» («Народ») организовала опрос читателей. За три года Джеффри Горер получил более 11 000 ответов. В итоге он сделал вывод, что за последние 150 лет национальный характер изменился ненамного. Поверхностных изменений наблюдалось множество: население, жившее в беззаконии, стало блюсти закон; страна, где обожали собачьи бои, травлю медведей и публичные казни через повешение, стала человеколюбивой и щепетильной; повальное взяточничество в общественной жизни сменилось высоким уровнем честности. Однако неизменным, похоже, остались глубокое возмущение надзором или контролем, любовь к свободе; сила духа; низкий по сравнению с большинством соседних стран, интерес к сексуальной жизни; прочная вера в значение образования для формирования характера; внимание и деликатность по отношению к чувствам других и весьма крепкая приверженность к браку и институту семьи... Англичане поистине единый народ, более единый, отважусь отметить, чем в любой предшествующий период своей истории. Когда со всем тщанием прочитывал первую пачку полученных опросников, оказалось, что я постоянно делаю одни и те же заметки: сначала - «Какую же скучную жизнь, похоже, ведет большинство этих людей!», а потом — «Какие прекрасные люди!». Таких же суждений мне, похоже, стоит придерживаться и сегодня.
Причины подобного единения достаточно очевидны – страна только прошла через ужасную войну, во время которой каждому пришлось чем-то жертвовать. Населению Англии, по-прежнему сравнительно единородному, стали привычными неудобства дисциплины, и его не охватила массовая иммиграция. Они оставались островитянами, и не только в физическом смысле, но и потому, что средствам массовой информации еще только предстояло создать «всемирную деревню».
Это мир сегодняшних дедушек и бабушек. Это мир королевы Елизаветы и ее супруга, герцога Эдинбургского. Юная принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Королевского военно-морского флота Филиппа Маунтбаттена в 1947 году. В те суровые времена (по карточкам на человека давали по три фунта картофеля и по одной унции бекона в неделю) эта свадьба привнесла в однообразную атмосферу страны ощущение зрелищности и волшебства. Филипп был в военно-морской форме, а Елизавета сменила фуражку, в которой ее видели во время войны, на атласное платье, украшенное десятью тысячами мелких жемчужин. В духе Тревора Говарда и Селии Джонсон они могли полагать, что их ждет долгая совместная жизнь. И они прожили ее. Но стали последним поколением, придерживающимся этого кодекса. Как и четвертая часть семейных пар, заключивших союз в 1947 году, королевская чета праздновала в 1997 году золотую свадьбу, но к тому времени затруднительное положение, в котором оказались Селия Джонсон и Тревор Говард, стало чуть ли не антропологической редкостью: ожидалось, что такую марафонскую дистанцию пройдут менее одной десятой всех пар, сыграющих свадьбу в последующие пятьдесят лет. К тому времени женщины уже составляли более половины всего занятого населения — поразительная перемена, если принять во внимание ту безропотность, с какой пятьдесят лет тому назад большинство из них оставили места, где работали во время войны, чтобы на них могли принять демобилизовавшихся мужчин, которые требовали работы. Теперь ежегодно большинство из 200 000 браков заканчиваются разводом, причем на развод чаще всего подают женщины, которые уже больше не готовы считать, что «мы должны быть благоразумными». Ко времени празднования юбилея принца Филиппа и королевы Елизаветы трое из их четверых детей вступили в брак, и каждый из этих браков был расторгнут. Наследник престола развелся с женщиной, которую прочили в будущие королевы, и она встретила смерть в парижском подземном туннеле вместе со своим любовником-плейбоем Доди Файедом, отец которого, Мохаммед, владеет «Харродз», самым известным магазином в «стране лавочников», и завел обычай передавать деньги в коричневых бумажных конвертах членам парламента-консерваторам, заявляющим, что их партия зиждется на английских традициях неподкупности и чести. На похоронах Дианы происходили настолько «неанглийские» сцены публичного оплакивания — зажженные свечи в парке, бросание цветов на проезжающий гроб с ее телом, - что военному поколению оставалось лишь смотреть на все это как озадаченным путешественникам в своей собственной стране.
Бросавшие цветы научились этому из телевизионных программ, ведь это латинский обычай: могущество средств массовой информации трудно переоценить. Мода на еду, одежду, музыку и развлечения уже не устанавливается внутри страны. Даже обычаи, остающиеся подлинно местными, являются п
Крупным планом сперма течёт из киски по жопе на постель
Блондинка с маленькими сиськами Нелла Джонс соблазняет двоюродного брата
Пышка примерила сетчатое белье и показала шикарное тело на кровати