Теоретические оптики SSHS. Часть вторая. Между храмом и племенем
Андрей Герасимов
Под самый занавес ушедшего года коллектив ЦИАНО ЕУСПб сделал мне крутейший подарок, заслушав мой доклад про различные теоретические оптики в SSHS. Собрав в кучу все критические замечания и благожелательные напутствия, я наконец возвращаюсь к циклу, начатому текстом за 29 ноября. Извините за непривычно большой объем и почти полное отсутствие мемов с каламбурами. Эта версия – черновик предстоящей статьи в журнале, так что никаких больше бирюлек. Все на серьезных щах.
Первыми представителями коммуникативного структурализма можно назвать двух классиков социологии науки Роберта Мертона (1973) и Джозефа Бен-Дэвида (2014 [1971]). Оба, к сожалению, за редкими исключениями почти ничего не писали ни о социальных, ни о гуманитарных науках. Их куда больше интересовали «настоящие» ученые: физики, химики, биологи, в крайнем случае психологи. Вместе с тем, видение своего предмета как цельной системы, акцент на поддержании ценностных и нормативных образцов действия, а также важности безличных процессах социальной дифференциации оказались крайне востребованными их более молодыми коллегами. Несмотря на выход многих этих идей из моды, они послужили основой огромному количеству эмпирических исследований и продолжают быть влиятельными по сей день (об этом подробнее: Губа 2015).
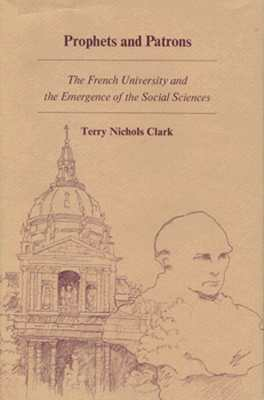
Терри Кларк, пожалуй, наиболее важный социолог, изучавший развитие собственной дисциплины в духе классического структурного функционализма. В своих работах он подхватил идеи Джозефа Бена-Дэвида о функционировании различных социальных ролей в науке и их гибридизации, соединив теорию со скрупулезным анализом исторических источников. В центре главной монографии Кларка (1973) – процессы институционализации научных сообществ во французской социологии начала XX века, которые привели к появлению школы Эмиля Дюркгейма.
По его мнению, централизация системы науки и образования во Франции привела к тому, что латентную функцию поддержания в ней социального порядка взяли на себя лидеры неформальных организованных кластеров – патроны. С другой стороны, передовые идеи обычно происходили от пророков – интеллектуальных лидеров, которые были в состоянии отделить себя от существующих научных парадигм и создать новые институции для поддержания идейного обмена. Обе роли были крайне важны для поддержания академической жизни, но занимали их обычно разные люди.
Кларк сравнивает между собой четыре группы: социальных статистиков, круги Фредерика Ле Пле, Рене Вормса и Эмиля Дюркгейма соответственно. Каждая из групп пыталась институционалировать свою деятельность, издавая журналы, проводя конференции и т.п. Сравнивая различные движения в социальных науках Франции того времени, Кларк приходит к выводу, что лишь Эмиль Дюркгейм смог объединить в себе роль не только пророка, но и патрона. В итоге его исследовательская школа не только институционализировала свою работу, но и закрепилась внутри французской университетской системы. Впрочем, после 1914 года школа Дюркгейма начала претерпевать упадок, не справившись с заменой важнейших членов, погибших на фронте, и проиграв другим наукам конкуренцию за рекрутирование молодых талантов. Таким образом, по Кларку, институционализация социологической школы может сменится деинституционализацией в результате неблагоприятных факторов.
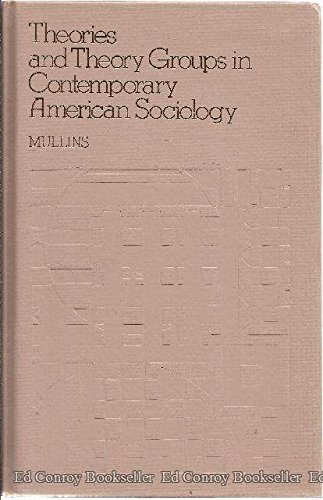
Николас Маллинз – один из первых сторонников сетевого анализа в социологии науки. Его концептуальный аппарат можно расположить где-то на середине пути между структурным функционализмом Кларка и современными сетевыми исследованиями, о которых речь пойдет чуть позже. Вместе со своей женой Кэролайн Маллинз (1973) он разработал собственную концепцию изменений теоретических групп – сообществ социологов, разрабатывающих общий подход. Критерием теоретической группы является, впрочем, не свойства идей, а особая структура социальных связей: каждый из членов должен иметь больше связей внутри сообщества, чем за его пределами.
Маллинзы выделяют четыре стадии, которые каждая группа может последовательно пройти за время своего существования. Нормальная стадия (отсылающая к нормальной науке Томаса Куна) отличается слабой, своего рода атомизированной структурой взаимодействий между учеными. На стадии сети происходит сужение научной коммуникации, при которой у исследователей появляется общий фокус и зарождаются отношения учителей и учеников. Стадия кластера характеризуется еще большей сфокусированностью на эксклюзивном интеллектуальном продукте. Идеи группы становятся явно отличными от окружающей ее нормальной науки, а теоретическая группа приобретает ввиду этого репутацию либо бунтовщиков, либо элитарного центра дисциплины. Это позволяет притягивать перспективных студентов, которые хотят стать не просто социологами, а именно частью конкретного громкого направления. Стадия специальности завершает эволюционный цикл. Здесь группа приобретает отчетливого организационного лидера, создает для своих последователей рабочие места и начинает распространять свои идеи про помощи учебных материалов.
Теоретические группы совершенно не обязательно проходят все стадии до логического конца своего социального развития. Отсутствие лидера, мотора группы или отчетливой теоретико-методологической программы может затормозить развитие полноценного сообщества. Так, Маллинзы показывают, что критическая социология, вдохновленная импортом идей Франкфуртской школы в США, так и не смогла развиться до полноценной специальности, так как большая часть интеллектуальных и организационных усилий по формированию сообщества пришлись на внеакадемические инициативы. В то же время этнометодологи, наоборот, могут быть примером крайне успешного группового строительства, реализованного через бунт против стандартных подходов в американской социологии.

Стефен Коул – ученик и соавтор Роберта Мертона, который продолжает развивать гипотезы последнего о напряжении между подсистемой коммуникации и подсистемой вознаграждения в науке. Он тоже пробует найти компромисс между структурным функционализмом и более новыми критическими конструктивистскими подходами в социологии научного знания. В своей работе Коул (1992) выделяет в структуре научных сообществ ядро и фронтир. В первом случае речь идет о накопленных общих знаниях, по отношению к которым принят консенсус, как о проверенных и надежных. Во втором случае проверенного стандарта знания еще не существует, зато идет борьба всех против всех за определение содержания еще не исследованной области.
Коул замечает, что выбор между фронтиром и ядром в качестве предметов исследования обычно ведет к разным философским воззрениям о границах рационального познания. Исследователи ядра видят науку в духе рационального позитивизма, в то время как исследователи фронтира склоняются к радикальному конструктивизму. Согласно мнению Коула, изучение науки должно избегать обоих крайностей. (Если Маллинзы отчетливо ориентировались на философию познания Томаса Куна, то Коул, как можно понять, находится под влиянием другого значимого эпистемолога – Имре Лакатоса).
По мысли Коула, чтобы научное направление стало частью канона направлений и дисциплин, должен произойти процесс оценивания, когда сложившиеся в науке группы принимают познавательные инновации новичков в общий реестр. Таким образом знание из фронтира переносится в ядро и закрепляется там. Одновременно с этим рост ядра автоматически ведет к увеличению ширины фронтира. Чем больше различных школ и направлений появляется в науке, тем больше возрастает когнитивная неопределенность в науке как таковой. Коул предлагает не фиксироваться на этнографических исследованиях лабораторий, а производить количественный анализ практик оценивания: рецензирования, цитирования, собеседований на позиции и т.п.
Согласно Коулу, социология и другие общественные науки с трудом вырабатывают внутри себя ядро, поэтому их история – это не история общепринятых открытий, а, скорее, история циклической смены модных парадигм. Спектр мнений социальных ученых по поводу значимых положений своих наук остается шире, чем даже среди их коллег в молодых отраслях естественных наук. Из-за отсутствия собственных стандартов оценивания в карьерах социальных ученых большее значение имеют вненаучные факторы: гендер, класс и т.п. Проблемный круг попыток формирования консенсуса по главным исследовательским вопросам замыкается. Социальные науки, таким образом, являются примером бесконечного фронтира.
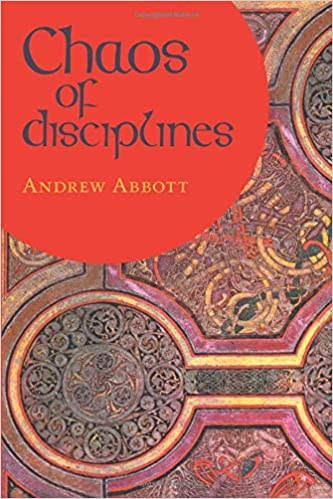
По Эндрю Эбботту (2001), члены социально-научных дисциплин вынуждены выбирать между двумя альтернативными ответами на ключевые вопросы в концептуальных дебатах, чтобы сократить для себя когнитивный хаос. Количественные методы противостоят качественным, теории ограничений – теориям выбора, макрофокус – микрофокусу и т.п. Познание в социальных науках отсюда носит промежуточный характер: различные варианты выбора сосуществуют, а не исключают друг друга. Объективная истина, таким образом, лежит между вариантами выбора, а не схватывается ими по отдельности. Это создает основу для фрактальных различений, где одни и те же ключевые исследовательские вопросы не получают окончательного ответа, а лишь воспроизводят сами себя в виде линиджей – линий преемственности одних и тех же научных проблем, напоминающих деревья. Линиджи отличаются самоподобием, так как наследники склонны размежевываться в точности по таким же принципам, что и предшественники.
Эмпирическими иллюстрациями для Эбботта служат многочисленные линиджи из американской социологии второй половины XX века. К примеру, он описывает дилемму реализма и конструктивизма в дебатах о девиантном поведении среди молодежи в начале 1960-х гг. Реалисты полагали, что отклонения от норм поведения существуют в действительности, а полицейские сводки только регистрируют их. Так что полицейскую статистику они полагали в качестве надежных данных. Напротив, конструктивисты утверждали, что ярлыки о совершении того или иного правонарушения не отражают социальный порядок, а создают его. Следовательно, необходимо изучать, как приводы в полицию влияют на дальнейшую биографии заключенных.
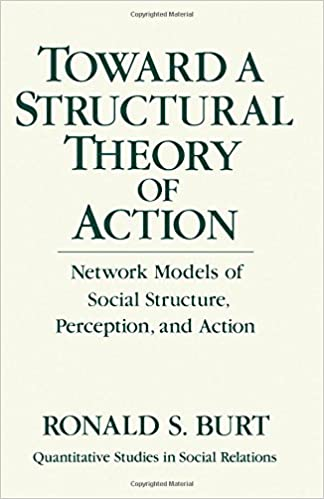
Наконец, необходимо выделить еще одну важнейшую теорию социальных и гуманитарных наук в духе коммуникативного структурализма, которая не получила глубокого развития каким-то одним ученым, а является, так сказать, растворенной в воздухе. Речь, конечно, о теории социальных сетей. Вдохновляясь не только монографией Николаса и Каролайн Маллинз, но и исследованиями одного из создателей методологии сетевого анализа Рональда Берта о сообществе математических социальных ученых в США (Burt 1982), социологи с удовольствием берутся исследовать структурные дыры – области отсутствия связей между научными сообществами. Материалом для таких исследований служат обычно данные о цитируемости или соавторстве научных публикаций. Среди этих попыток можно выделить два подхода, которые для меня по-настоящему важны и интересны именно c точки зрения их теоретического вклада. (Здесь также напрашиваются исследования Михаила Соколова и его соавторов о Вест- и Ист-Сайдах российской социологии, но про отечественных SHSS-ников будет отдельный материал).
Исследования команды под руководством Джеймса Муди и Лоры Лихи высветили несколько важных черт организации социологии в США. Согласно их выводам, она является доминантой ландшафта социальных наук. Социологи больше всех в среднем сотрудничают с представителями других академических специальностей. Это приводит к тому, что связи между социологами зачастую являются менее сильными, чем связи социологов с их соседями. Например, экономистами, антропологами, представителями менеджемента или права. Таким образом, центральность социологического сообщества среди соседей достигается ценой его меньшей связности (Moody 2006). Вместе с тем, такое положение дел сосуществует с постепенным ростом исследовательских коллабораций среди социологов на уровне статей. Если связи в масштабах сообщества становятся слабее, то на уровне исследовательских коллективов все наоборот (Moody 2004). Кроме того, стили коллаборации приобретают все большее разнообразие (Leahey and Reikowsky 2008). Это также способствует тому, что преодоление изоляции отдельных субполей начинает приносить взявшимся за это исследователям большие бенефиции в виде значительных показателей цитирования (Leahey and Moody 2014).
Другая пара авторов, бельгийцы Раф Вандерстратен и Фредерик Вандерморе изучают процессы создания дисциплин, сравнивая развитие международных сообществ историков науки и STS. Если сообщество STS к недавнему времени стало в чем-то походить на американскую социологию своими разветвленными междисциплинарными связями в ущерб связям внутренним, то историки науки представляют довольно классическое научное сообщество – сплоченное и сравнительно изолированное (Vandermoere and Vanderstraeten 2012). При этом старейший журнал историков науки Isis, основанный в 1924 году, до сих пор является центром дисциплины. Он характеризуется еще большей консервативностью своих авторов, которые редко публикуются в журналах из других исследовательских областей. В то время как более молодые журналы из этого же направления исторической науки (The British Journal for the History of Science, Science in Context и др.) отличаются чуть более выраженной междисциплинарной направленностью своих авторов (Vanderstraeten and Vandermoere 2015).
Итак, несмотря на потерю статуса главной и единственной группы подходов в SSHS, коммуникативный структурализм живет и развивается. Более того, его сторонники разработали способы интеграции в свои концептуальные рассуждения мотивов значимости материальных ресурсов для коммуникации и важности взаимодействий для преобразования структур. Вместе с тем, метафоры религиозных и племенных сообществ по отношению к социальным и гуманитарным ученым, конечно, имеют пределы. Например, в своей идеализации сотрудничества и кооперации. Тем временем, более темная и пессимистичная картина структуры научных сообществ почти параллельно скложилась в рамках совсем другой теоретической оптики.
Продолжение следует...