Спортивная краля в одних трусиках вертится перед зеркалом в спальне
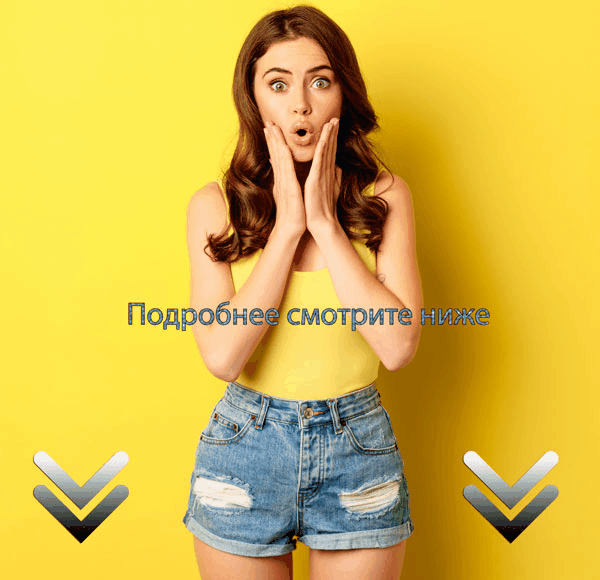
Спортивная краля в одних трусиках вертится перед зеркалом в спальне
Рыбаченко Олег Павлович: другие произведения.
Оставить комментарий
© Copyright Рыбаченко Олег Павлович
( gerakl-1010-5 )
Размещен: 20/04/2022, изменен: 20/04/2022. 3572k. Статистика.
Роман : Эротика
Скачать FB2
Ваша оценка:
не читать
очень плохо
плохо
посредственно
терпимо
не читал
нормально
хорошая книга
отличная книга
великолепно
шедевр
Аннотация: С молотка продают красивого и смазливого, мускулистого юношу на ночь, одной из многочисленных, похотливых дам. Разумеется, многие женщины хотят мальчишку-красавца и готовы выложить приличную сумму денег. Даже за пределами размного.
Оставить комментарий
© Copyright Рыбаченко Олег Павлович
( gerakl-1010-5 )
Размещен: 20/04/2022, изменен: 20/04/2022. 3572k. Статистика.
Роман : Эротика
Ваша оценка:
не читать
очень плохо
плохо
посредственно
терпимо
не читал
нормально
хорошая книга
отличная книга
великолепно
шедевр
Автор этой книги — выдающийся советский актер, один из
ведущих мастеров Ленинградского Большого драматического театра имени
М. Горького, которым многие годы руководил Г. А. Товстоногов.
Тысячи зрителей видели Лебедева в спектаклях «Идиот» и «Варвары», «Мещане» и
«Карьера Артуро Уи», «История лошади» и «Дядя Ваня», «На всякого мудреца
довольно простоты» и «На дне», во многих других постановках и фильмах.
Книги, написанные актерами, — не редкость. Как правило,
это мемуары или теоретические работы о сценическом искусстве. Книга Евгения
Лебедева не принадлежит к этим традиционным жанрам, хотя составляющие ее
произведения в большинстве своем автобиографичны и многие ее страницы так или
иначе связаны с театром. Это прежде всего «Мой Бессеменов», своеобразный литературный
автопортрет в знаменитой горьковской роли, который позволяет хотя бы отчасти
понять, как рождаются актерские шедевры. Необычный по форме рассказ об этой
работе, изданный впервые в 1973 году, привлек большой читательский
интерес, прибавив к актерским лаврам Лебедева лавры театрального 6 писателя. В
этом качестве выступает автор и во втором разделе книги, куда включены
театральные новеллы, малоизвестные или вовсе не известные читателю.
Однако в течение многих лет Евгений Лебедев писал не только
о театре. Писал для себя, как говорится — в стол, не рискуя обнародовать
свои рассказы за пределами узкого круга друзей и близких. И потому, что считал
свои литературные опыты этого рода делом интимным, не достойным широкого
внимания. И потому, что в течение многих лет большинство его рассказов просто
не могло быть опубликовано: они затрагивают ту трагическую правду нашей
истории, о которой мы заговорили открыто лишь сегодня. В детстве и юности
Евгений Лебедев оказался не только свидетелем, но и жертвой чудовищных заблуждений
своего времени, и боль прошлого осталась с ним навсегда.
Познакомившись с этими и другими рассказами, мы обнаружили,
что они представляют отнюдь не меньший интерес, чем его театральная проза, и
вместе с ней образуют целостное и самобытное художественное явление —
литературное творчество Евгения Лебедева.
8 В основе этой книги — записки, которые я вел в антрактах
и после спектакля на представлениях «Мещан» на сцене нашего Ленинградского
Большого драматического театра. В этом спектакле я исполняю роль Бессеменова.
Мне хотелось зафиксировать внутренний монолог моего героя в каждый момент его
пребывания на сцене.
В этих записках мысли, возникшие у меня и в период
репетиций.
В этой книжке я и Бессеменов перемешаны. Так, должно быть, случается,
когда любишь роль, думаешь о ней все время, что-то меняешь, уточняешь,
прорабатываешь, шлифуешь.
Я пишу здесь о внутренних импульсах его характера, движениях
его души. Но это не значит, что на каждом спектакле я «подкладываю» под
исполнение роли одни и те же ассоциации, мысли. Не говоря уже о том, что при
переносе на бумагу многое неизбежно теряется, я, актер, каждый раз прихожу на
спектакль в различном эмоциональном состоянии. Оно диктуется и обстоятельствами
моей собственной жизни в день спектакля, и партнерами, и ходом жизни вообще.
Если я выработаю раз и навсегда канву внутренней жизни
героя, это будет означать конец его живой жизни в спектакле.
Не пишу здесь о многом, что составляет роль, движет мной во
время спектакля. Например, о «борьбе» со зрительным залом, о том, как, каким
способом втягивается 9 в конфликт зритель. Не нишу о рисунке жестов, о том, как
говорю, и о многом еще, что составляет роль.
Пишу о главном. О внутренней жизни моего персонажа.
О том, как я, актер, чувствую Бессеменова-человека, как
открываю в нем человеческое начало.
Ведь в его жизни происходят простые и трагические события.
Уходит сын, Петр. Он его растил. Это как руку у него отнимают. Я ищу сходные
мотивы в моей биографии, вспоминаю отца и мать, рано исчезнувших из моей жизни.
Возникают нужные чувства.
Есть большие исторические эпохи и есть короткая человеческая
жизнь.
Спектакль отражает эпоху, но я, актер, отражаю человеческую
жизнь и правду отдельного человека, горьковского Бессеменова. Как сегодняшний
актер, понимаю, что в контексте эпохи его правда — ложь. Но ведь такое
несоответствие и называется трагедией.
Мой внутренний монолог — трагедия Бессеменова.
Жизнь в пьесе «Мещане» начинается во время послеобеденного
отдыха в доме Бессеменова. Собираются пить чай, традиционный ежедневный чай.
Сцена пуста. В столовой никого нет. «Сам» еще отдыхает в спальне, на высокой
своей постели. Рядом с ним жена. Проснулась раньше, но боится его побеспокоить.
А он не спит уже, открыл глаза, думает… О чем он думает?..
Надо мной потолок, я изучил его насквозь. Мой потолок, мой
молчаливый собеседник! Вот и сейчас, лежа на спине, заложив руки за голову, я
смотрю, прищурив глаза, и думаю… Моему потолку много лет, он очень старый,
старее меня. Он все знает, все слышал, все видел. Раньше я его не замечал, не
нужен был он мне: я знал, что есть у меня над головой потолок, а какой
он — мне было все равно. Зачем он мне? Я его мыл, красил, чинил и не
замечал, а теперь он мне необходим. Смотрю на него последние годы все чаще и
чаще. Я его изучил со всеми его трещинами-морщинками. Я подружился с ним. Он
терпеливо выслушивает мои жалобы…
Скрипнула деревянная кровать — это моя баба, моя глупая
старуха, повернулась лицом к стене и делает вид, что спит. Бедная моя старуха,
жаль мне тебя! Ничего ты от меня не скроешь, за всю нашу долгую жизнь с тобой я
научился открывать твои нехитрые материнские тайны. Знаю тебя всю, всю, какая
ты есть, со всеми твоими потрохами, а ты по привычке продолжаешь хитрить и
думать, что я не замечаю. Слышу, что ты не спишь, 11 притворяешься. Бессонница у нас. И
причина ее одна — наши с тобой дети… Ждали от них покоя, а выросли
они — получилось одно беспокойство. Каждый сам по себе, все врозь, словно
чужие, терпим друг друга только потому, что нужно терпеть, нужно жить. Друг
друга не понимаем. Перестали понимать. Так вот и живем.
Мы для них чужие. Для них наша с тобой жизнь — плохой
пример, прожита бесцельно. Они смеются над нами, им стыдно за нас. А уйти им
некуда — они наши дети.
Откуда все это берется? А? Кто мешает?
Почему так происходит? В них наша с тобой кровь, они от меня
и от тебя, эти дети. У дочери мои глаза, у сына твои, серые, зато лоб мой, мой
нос, и весь он похож на меня. Каждый опознает в нем нашего сына. Нил — тот
чужой, в нем кровь чужая, не твоя и не моя, и все-таки и он наш сын. За
двадцать лет я привык к нему.
Почему мы тогда его взяли? Зачем он нам? У нас были свои
дети. Первой была Татьяна, вторым появился Петр… Вспомнил. Ты не могла рожать.
Ты стала бездетной. А дети нужны… Нам нужны были мальчишки, сыновья, помощники.
Вот и взяли Нила.
Эх, старуха! Скрючилась, сжалась в комок, кулаки прижала к
подбородку, уткнулась в стенку, не дышишь. Молчишь, боишься. Меня боишься, я
знаю. Ты всегда меня боялась, потому ты меня и любишь, уважаешь.
Ты тоже научилась кричать, как я кричу, значит, мне
подражаешь, от меня перенимаешь. Только крик-то твой не тот. Добрая ты! От
добра твоего тебя и не уважают. Садятся на шею за добро-то твое… Мягко им
сидеть на добре-то твоем.
Скрывать нужно, добро-то. Не показывать… Эхма! Пропустили
мы, прозевали, выпустили вожжи из рук. Учить надо было тогда, когда они поперек
дивана лежали, а когда вытянулись вдоль, опоздал, брат, ничему не научишь.
Раньше были — отец и мать, раньше боялись… значит,
любили… Вот здесь, на этой самой кровати, возились, да ласкали, да целовали, а
потом пошли в школу… Когда же это случилось?
Сколько стоила нам с тобой эта школа?! Наши дети
учатся — радость-то нам с тобою какая была, а! Они будут образованные, мои
дети. Наши с тобой дети!
12 Выучились… нечего сказать. Школа, что ль, против нас? Против
меня? Чему их там учили? По каким книгам науку проходили? Я ведь тоже учился,
немного, правда, но учился. По тем же самым книгам. Забыл только все. Не помню
ничего, да и незачем мне это помнить. Без всяких книг, без университетов прожил
свою жизнь, и хорошо прожил. Моя наука была простой, верной: малярной кистью
смажут по роже раза два в день, вот и выучили! Какие учителя были, какие
мастера! Какие дела делали… Сами были сыты и нас кормили. А как жили! Какие
дома имели, и в дому полон дом был, чего-чего только не было!
Нет, бить нужно, бить, вышибать дурь из головы. Пропустили,
прозевали…
— Мать, ты спишь? — молчит. — Врешь ведь, не
спишь! Потри мне спину. Ну куда же ты лезешь? Не туда. Вот здесь, повыше. Черт
с тобой… Не умеешь — отстань, не лезь, отвернись и молчи.
— Спи… Какая ты стала корявая. Уйду я от тебя… Не реви, и
так мокро! Вон на улице дождик собирается. У других все как у людей, а у нас
все не так. Какого черта ты разлеглась? Делай что-нибудь. Где Петр?
— От чего это он отдыхает? От чего устал? От какой работы?
Устал! С этой бабенкой крутился всю ночь… Ты думаешь, я не знаю, не слышу… Курва
проклятая! Посмотри на потолок-то, вон из него что стало. Все ночи песни да
танцы у нее. Стервоза. Распутная. Вон угол-то до сих пор не просох! И не
просохнет. Хлещет воду-то, пол-то гноит. Умывается, видишь ли, она! Спустись
вниз да умывайся! Надзирательница!.. Над чем это она там в тюрьме надзирала-то?
Мужа ее — лошадь убила. Врет, наверно! Сама помогла умереть. А теперь,
видишь… лошадь убила… Кто у нее там бывает? Одни мужики. Кроме Петра. Тетерев
тоже птица! И фамилия птичья… Бродяга бездомный. Краснобай и лодырь. Песни
поет. Нашел себе развлечение — песни петь! Пропойца несчастный! Замерзнет
где-нибудь на дороге… Критикует! Все и всех критикует… А хорошо поет! Сукин
сын!
Работал бы, занимался делом — не было бы времени
критиковать. А жрет больше всех. В его огромную тушу, как в бездонную
бочку — сколько ни влей, все голодный будет. Чему он учит, что внушает?
Кому нужно его внушение? 13 Молокососам, непонимающим. Они и клюют на его удочку. Приманка
для них хорошая — бездельничать. Распустит свой язык, а те и развесили
уши! Вот он и вливает им яд, разлагает их своими проповедями. Это он назло нам,
в отместку мне. Ненавидит он нас, не любит. Завидует… А ты заработай!
Потрудись! Погни перед другими спину, руки-то свои не жалей, они человеку на то
и дадены, чтобы ими делать что-нибудь, работать. Хлеб свой насущный
зарабатывать, а не попусту, без дела размахивать.
Неудачник. Они все такие. Гордость-де… А в чем его
гордость-то? Чем он гордится? Ничтожностью своей?! Силой своей? Девать, видишь
ли, ему ее некуда. Не нужна, говорит, она, сила-то, нужна ловкость и хитрость.
Врет. Все врет. Мне вот ее не хватает, силы-то. Я злюсь на нее, на мою
силу-то — что она уже бессильна. Ушла моя сила, вся ушла, жизнь сожрала.
Как моль платье. Осталось ее столько, что дотянуть бы до конца дней моих… Кто
мне в чем поможет? Ты, что ль, взаймы дашь силу-то свою? Как же! Сам норовишь,
где бы чужое схватить да прикарманить.
На словах-то вы все сильны, сейчас вы все ко мне жметесь,
тепло вам у меня. Все сегодняшним днем живете, не думаете, что будет завтра. А
завтра-то оно еще тяжелей. Кто мне что приготовит на завтра? Ты, что ль? Петр?
Нил? Я сам. От детей ждать нечего, они сами ждут от меня…
От хорошей жизни, что ли, я вас, нахлебников да
квартирантов, пустил? Расходы большие. Нет у вас ничего, да и никогда не было.
Вот вы и не знаете. А у меня дом. Он старый, его чинить нужно, поддерживать,
сам он не починится, и никто другой не починит. Заставь тебя делом заняться,
косматый черт! Как же, так ты и согласишься… Везет же таким, птицам этим… Ему
что? Встал, раскрыл рот и пой, учить ничего не нужно, все в книге написано,
расписано по нотам. То похороны, то свадьба… Чего-то умирать часто стали! С
чего бы это? Какие-то новые болезни пошли, которых раньше и не знали. Вот у
меня тоже… поясницу ломит… Заснешь вот так-то — и не проснешься! А хорошо
бы так, спокойно.
А вдруг болезнь? Мученья разные? Кто тогда поможет? Кто за
тебя врачу платить будет? Врачей я этих знаю. Им только деньги подавай… Петру
бы врачом быть, а не адвокатом. Много денег загребают. Попади только к ним 14 в руки!..
Черти, хорошо живут! И работа чистая, во фраках ходят, в сюртуках. А каких
лошадей имеют! А какие деньги берут за визит, страсть!
Эх ты, Петька, сукин ты сын, прости меня, царица небесная,
сорвался! Не того я ждал от тебя, не тому отдавал тебя учиться. Правильно, что
выгнали. Так тебе и надо! С прохвостами связался, сам прохвостом стал, а
прохвосты государству не нужны.
Социализм, видишь ли, им нужен. Что оно такое за понятие?
Кто его придумал? Кто такую мысль толкнул? Кто дал на это право? Жили и живем!
На хрен он кому нужен, этот социализм-то! Это жиды, наверное, придумали,
православному такое и в голову не придет.
Обманывают народ, а тот им и верит. Жизнь всегда была и
будет такой, какая она есть, мутная, тесная. И всегда так будет!
У нас вот тоже. Досекин Федька. Тоже их мысли протаскивает,
от них, наверное, заразился… русский ведь, а тоже! Артели ему нужны, все
сообща, видишь ли, делать надо, ремесленникам жить нельзя врозь. Жизнь,
говорит, трудна. Зачем это ему все нужно? На чью мельницу воду-то льет?
С головой мужик-то, мозги хорошо варят. Только вот зигзаги у
него какие-то. Загнул он насчет артелей-то! Этак можно и до предела дойти, так
может и жизнь прекратиться, если у меня ничего своего-то не будет…
А еще мастер! Если уж мастера такое говорят, то чего же
ждать от мастеровых. Им только дай волю-то! Воля-то, она страшная. Испытали мы
эту волю-то. Знаем мы ее. Нищих она разводит, разорение одно. После воли-то
сколько бродяг по стране бродит! Жулья сколько развелось…
Социалист! Общество! Это что такое за слово — общество,
кому оно нужно? Опять, значит, общее все, ничего, значит, своего! Вроде как
скоты мы получаемся, стадо! Скотинушке-то, ей в общественном стаде ох как
тяжело. Хороший хозяин свою корову не пустит в общественное-то, она там
голодной останется. Он ее сам попасет, она ему за это больше молока принесет…
Общество! Куда меня, значит, пастух погонит, туда я и должен бежать?
Нет, милый, не бывать этому. Этак ты на старый лад
поворачиваешь. Государь наш волю нам давал не для того, чтобы опять в кабалу,
нет. Теперь каждый сам по себе, сам хозяин своей жизни!..
15 А кто будет артелью управлять? Ты, значит? Раз ты придумал, ты
и будешь управлять? Ишь ты, чего захотел! Моя артель — моя семья, мой
дом — вот моя артель. Здесь ничего не пропадет, все, что в дом придет, все
в доме останется. Я умру — сыну передам, а сын — для своего сына
копить будет, и так без конца. Это будет мое, бессеменовское! А ты,
значит, — работай на дядю? Вот мерзавцы, что придумали! Хитрый народ
пошел, ловкий, всяк норовит другого задавить. А не задавишь — не
проживешь… Господи, что это я говорю-то, мысли-то какие в голову лезут?
Господи, отведи от меня всякого врага и супостата, господи, помилуй и сохрани
мя…
— Так это я — от думы, от мысли разной.
Теперь я буду рассказывать о жизни, изображенной в спектакле
и увиденной глазами Бессеменова, о мыслях, переживаниях и поступках моего героя
в каждый момент сценического действия. Разговор пойдет от лица Бессеменова.
«Я» — это будет его, Василь Васильевича «я», а не мое, актера Лебедева. Но
иногда мне понадобится «выключиться» из образа, чтобы сказать и от своего
собственного лица, обратиться к событиям из собственной жизни, которые вызвала
в моей памяти роль Бессеменова. Для того чтобы читатель отличал мой внутренний
монолог от произносимых мною слов Горького, последние выделены курсивом.
Я знаю, что там уже все собрались, что должны быть все за
столом.
Я иду. У меня скрипит дверь, ведущая в мою комнату, дверь
можно было бы смазать, и она перестала бы скрипеть, но дело в том, что у меня
нет времени, не хватает его на то, чтобы такую простейшую вещь исправить. (Я,
актер, исполняющий роль Бессеменова, беру в обстоятельства такой незначительный
факт и делаю из него событие.) Я хочу показать, что я настолько занят, что
настолько беспокоит и волнует меня судьба моих детей, их будущее и настоящее,
что даже такую мелочь, как скрип двери, вызывающий во мне раздражение, я не
могу устранить.
16 Тем самым я жалею себя и вызываю к себе жалость других,
обвиняю других, своих близких, в невнимании ко мне как к отцу.
Меня зовут пить чай, зовет жена; я знаю, что все уже в
сборе, все за столом — так должно быть. Так, во всяком случае, было до сих
пор. Я иду.
Иду с мыслями о детях, о их неустроенности, о том, что сын
перестал учиться, его выгнали, выгнали с позором, позор это мне, отцу. Мне
больно, мне тяжело — и я это не скрываю! Показываю, несу эту домашнюю трагедию.
Пусть видят все!
Скрип двери меня выбивает, входя, я поворачиваюсь и смотрю
на дверь, на петли, на которых она висит, выругиваюсь про себя и уже после
этого смотрю на тех, кто в комнате.
А кто же в комнате? Петр, Татьяна и жена.
Надо бы помолиться, но я чувствую и вижу, что до меня что-то
произошло между матерью и детьми, Петром и Татьяной. Я это вижу по тому, как
суетится жена, и по тому, что за столом никто не сидит, дети в углу. Нет
нахлебников.
Нет нахлебников, значит, вызвав меня, жена прекратила,
оборвала назревавший скандал между нею и детьми. Я это понял. Влезать в скандал
не стоит, разбираться в нем нет необходимости, но всем своим видом показываю,
что все знаю, все понял, и проверяю свои догадки вопросом: «Нахлебников звали?»
И внимательно разглядываю каждого.
— Петя! Позови-ко… — как-то уж очень ласково
произносит мать. А сын, услышав обращение матери, сидит как вкопанный, молчит.
(Семейная идиллия не удалась — Петр подвел!)
Петр замечает, что я смотрю на него, резко встает и уходит,
наверное, звать нахлебников.
Тут я отворачиваюсь и начинаю молиться, но не просто молюсь.
Крест кладу широко и проникновенно, чтобы жена и дочь видели, как я мучаюсь,
как я страдаю. Я, отец, страдаю! Это теперь уже не формальность, не бытовая
подробность — молиться к столу, а просьба об избавлении нас от грехов
наших… и демонстрация.
Я чувствую, за моей спиной встала дочь и тоже молится. Но,
закончив молитву и повернувшись, я увидел, что она делает это только для меня
одного, стоит равнодушная; 17 выполняя обряд, показывает, что он ей в тягость. Дура! Тем
самым хочет показать бессмысленность поведения родителей, каждый раз
проделывающих никому не нужный обряд и заставляющих их, людей грамотных и
образованных, делать то же самое.
Я это видел в них и раньше. А сын? Тот совсем не молится, я
это заметил давно… Надо мной смеются, надо мной издеваются. Кто же? Мои дети. Я
каждый раз, каждый час моей жизни, обращаясь к Богу, молюсь за них, прошу за
них, умоляю — дать мне хлеб насущный, достающийся мне трудом, как завещал
мне сам Бог — «в поте лица добывать его». И я добываю и молюсь, чтобы
простил грехи мои и не вводил во искушение. А она, моя дочь (!), меня
оскорбл
Массажист натянул своим неутомимым членом красивую клиентку порно фото
Эротичная и мокрая красавица хвалится женскими прелестями в ванной
Две молодые лесбиянки на диване трахают друг друга и вылизывают сочные щели