Сначала хвастунья показывала белье
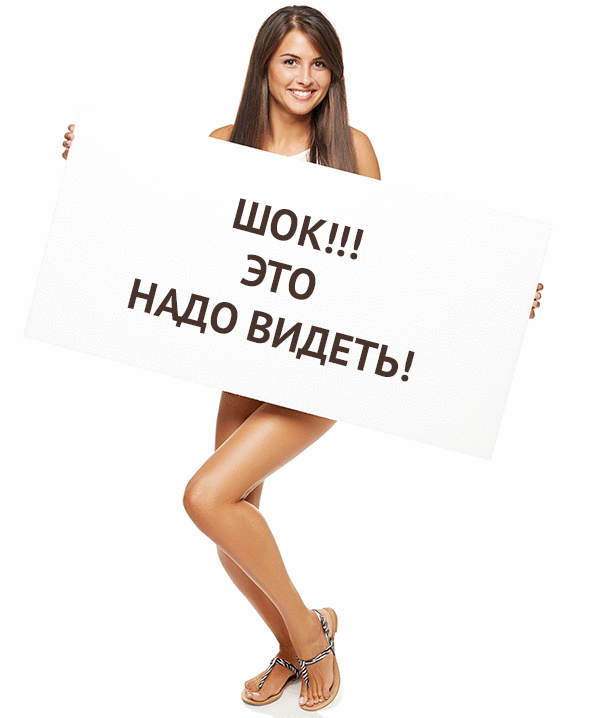
⚡ 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Сначала хвастунья показывала белье
Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Вы можете помочь развитию Викитеки, добавив в примечаниях их перевод на русский язык.
Вы можете помочь развитию Викитеки, добавив в примечаниях указание на их происхождение.
↑ Перейти обратно: а б фр. Casse-tête — Головоломка. Прим. ред.
↑ фр. Chère amie — Дорогой друг. Прим. ред.
↑ фр.
↑ фр.
↑ англ. Book — Книга. Прим. ред.
↑ англ. Flower — Цветок. Прим. ред.
↑ англ. Chair — Стул. Прим. ред.
↑ англ. Table — Стол. Прим. ред.
↑ Необходим источник цитаты
↑ фр.
↑ англ. Yes — Да. Прим. ред.
↑ англ. Learn — Учиться. Прим. ред.
↑ англ. Quite — Совсем. Прим. ред.
↑ англ. And — И. Прим. ред.
↑ англ. Nose — Нос. Прим. ред.
↑ англ. Mouth — Рот. Прим. ред.
↑ англ. Eyes — Глаза. Прим. ред.
↑ англ. Chin — Подбородок. Прим. ред.
↑ англ. Oh! Naughty little girl!.. — О! Шаловливая девчонка!.. Прим. ред.
↑ англ. О! For shame, miss Lolo! О, how shocking!.. — О! Стыдно, мисс Лоло! О, как ужасно!.. Прим. ред.
↑ Необходим источник цитаты
↑ англ. What, what about miss?.. — Что-что насчёт мисс?.. Прим. ред.
↑ англ. Pretty English songs — Прелестные английские песни. Прим. ред.
↑ фр.
↑ укр.
↑ укр.
↑ укр.
↑ фр.
↑ фр.
↑ фр.
↑ фр.
↑ фр.
↑ фр.
↑ фр.
↑ фр.
↑ фр. Ma chère amie — Мой дорогой друг. Прим. ред.
↑ Перейти обратно: а б « Зимний вечер ». Прим. ред.
↑ фр.
↑ фр. Palais Royal — Королевский дворец. Прим. ред.
↑ англ. Come, little one! — Пойдём, малышка! Прим. ред.
↑ фр.
↑ англ. What’s that? — Что это? Прим. ред.
↑ англ. А fish-hook? — Рыболовный крючок? Прим. ред.
↑ англ. Oh! For shame! — О! Стыдно! Прим. ред.
↑ англ. Miss Lolo — Мисс Лоло. Прим. ред.
↑ англ. O, no! O, no! It was not so! — О, нет! О, нет! Это было не так! Прим. ред.
↑ фр.
↑ фр.
Знаете ли вы, дети, как я помню себя в первый раз в жизни?.. Помню я жаркий день. Солнце слепит мне глаза. Я двигаюсь, — только не хожу, а сижу, завёрнутая в деревянной повозочке, и покачиваюсь от толчков.
Кругом пыль, жар, поблёкшая зелень и тишина, только повозочка моя постукивает колёсами. Мне жарко. Я жмурюсь от солнца и, лишь въехав в тенистую аллею, открываю глаза и осматриваюсь. Предо мной большой дом с длинной галереей. Какой-то старый солдат, завидев меня, издали улыбается и, взяв под козырёк, кричит:
— Здравия желаем кривоногой капитанше!..
Кривоногой капитанше ? — ведь это обидно, не правда ли? Я сообразила это позже; но в то время я ещё не умела обижаться. Няня вынула меня из повозочки и понесла… купать.
Много времени спустя я узнала, что это было в Пятигорске, куда мама привезла меня лечить и жила вместе с бабушкой и тётями, которые сюда приехали из другого города для свидания с нами.
Не диво, что это первое моё воспоминание.
Всякий день моя няня, старая хохлушка Орина, возила меня на воды купать в серной воде; а потом меня ещё на целый час сажали в горячий песок, кучей насыпанный на маленькой галерее нашей квартиры. Хотя мне был третий год, и я всё понимала и говорила, но не могла ходить. Впрочем, ноги у меня были только слабые, а не кривые, несмотря на прозвание «кривоногой капитанши», данное мне сторожем при купальне. А капитаншей он потому называл меня, что отец мой был тогда артиллерийский капитан.
Воды помогли мне: после Пятигорска я начала ходить.
Не помню, как мы расстались с бабушкой и как ехали домой. Я опомнилась совсем в другом месте, где уже не было родных моих, а всё приходили какие-то офицеры, и один из них высокий, с рыжими, колючими усами, называл себя моим папой… Я никак не хотела этого признать: толкала его от себя и говорила, что он совсем не мой папа, а чужой. Что мой родной, — большой папа (мы, дети, так называли дедушку) остался там, — с маминой мамой и тётями, и что я скоро к нему уеду…
Помню, что мама часто болела, а когда была здорова, то подолгу сидела за своей зелёной коленкоровой перегородкой и всё что-то писала.
Место за зелёной перегородкой называлось «маминым кабинетом», и ни я, ни старшая сестра, Лёля, никогда ничего не смели трогать в этом уголке, отделённом от детской одною занавеской. Мы не знали тогда, что именно делает там по целым дням мама? Знали только, что она что-то пишет, но никак не подозревали, что тем, что она пишет, мама зарабатывает деньги, чтоб платить нашим гувернанткам и учителям.
В хорошие дни мы уходили в сад и там играли с няней Ориной или с Лёлей, когда она была свободна. В дурную же погоду я очень любила садиться на окно и смотреть на площадь, где папа со своими офицерами часто учили солдат. Я очень забавлялась, глядя, как они разъезжали под музыку и барабанный бой; как гремя переезжали тяжёлые пушки, а мой папа на красивой лошади скакал, отдавая приказания, горячась и размахивая руками.
К нам часто приходило много офицеров обедать и пить чай. Мама не очень любила, когда они, бывало, начнут громко разговаривать и накурят целые облака дыма. Она почти всегда сейчас после обеда уходила и запиралась с нами в детской.
Зимою мама стала болеть чаще. Ей запретили долго писать, и потому она проводила вечера с нами. Она играла на фортепьяно, а Антония, молодая институтка, только что у нас поселившаяся, вздумала, шутя, учить сестру танцам. Мне это очень понравилось, и я тоже захотела учиться у неё; но так как я была очень толстая, а ноги всё ещё были у меня слабы, то я беспрестанно падала, желая сделать какое-нибудь па, и до слёз смешила маму и Антонию. Но я не унывала и ещё вздумала учить танцевать свою старую няню Орину. Бедная хохлушка никак не могла так повернуть ноги, как я ей приказывала; а я ещё была такая глупая девочка, что из себя за это выходила, щипала её за ноги и жаловалась, что у «гадкой Орины ноги кривые!»
Вдруг, сама не помню как, мы очутились в большом, красивом городе…
Я себя вижу в большой, высокой комнате. Я стою у окна, с апельсином в руке, и смотрю на море. Ух! Сколько воды!.. И не видно, где это море кончается?.. Точно уходит туда, — далеко-далеко, до самого неба. И какое оно шумливое, неспокойное! Всё бурлит сердитыми волнами, покрытыми белой пеной. У самого берега много качается кораблей, лодок, а вдали белеются паруса. «И как это им не страшно уходить так далеко от берега? — думаю я, глядя на них. — Как-то они вернутся?.. Верно утонут!?» И мне так и казалось, что на этих кораблях бедные люди должны уходить « туда », далеко в сердитое море, и навсегда там пропадать.
Мы жили в этом городе целую весну. Я много гуляла с Антонией и с новой гувернанткой-англичанкой. Особенно любила я сходить по широкой лестнице на морской берег и собирать там раковины и пёстрые камешки.
После я узнала, что этот город — Одесса, и что мама приезжала сюда лечиться.
После этого мы ещё прожили всё лето в очень скучном и грязном польском местечке (где стояла папина батарея), о котором я ничего не помню, кроме того, что раз мне подарили куклу, объявив, что я теперь большая , должна учиться читать и писать. Мне пошёл пятый год. Учение, однако, было отложено, и я продолжала только играть, расти, шалить и толстеть. Сестра, на четыре года старше меня, уже училась серьёзно с обеими гувернантками и музыке с мамою. Но бедная наша мама всё становилась слабее и больнее, хотя трудилась по-прежнему. Ради её здоровья, требовавшего правильного лечения, маме необходимо было согласиться на просьбы бабушки, и мы собрались ехать к ним в Саратов, чему Лёля и я ужасно были рады.
С этого времени я уж лучше помню и начну вам рассказывать по порядку всё своё счастливое детство.
Было темно. Наша закрытая кибитка мягко переваливалась со стороны на сторону. Устав от дороги и долгого напрасного ожидания увидать город, куда всем нам ужасно хотелось скорей доехать, мы все дремали, прислонясь, кто к подушке, кто к плечу соседа. Меня с сестрой совсем убаюкали медленная езда по сугробам, тихое завывание ветра да однообразные возгласы ямщика на усталых лошадей. Одна мама не спала. Она держала меня, меньшую, любимую дочку свою, на коленях; одной рукой придерживала на груди своей мою голову, оберегая её от толчков, другою проделала себе маленькую щель в полости кибитки и, пригнувшись к ней, всё высматривала дорогу.
Мне снилось лето. Большой сад с развесистыми деревьями. Какие большие, жёлтые сливы!.. И как больно глазам от солнца, светящего сквозь ветви!..
Вдруг я проснулась, пробуждённая толчком, и в самом деле зажмурилась от яркой полоски света, пробежавшей по моему лицу.
— Это что? — спросила я, вскочив и протирая глаза. — Что это такое, мамочка?.. Фонарь?
— Фонарь, моя милая, — сказала мама, улыбаясь. — И посмотри, какой ещё большой фонарь!
Она отодвинула полость кибитки, и я увидела много огоньков, а впереди что-то такое большое, светлое, в два ряда унизанное светящимися окнами…
— Это дом, мама! Какой хороший!.. Кто там живёт?
— А вот посмотрим, — отвечала мама. — Разве ты не видишь, что мы к нему едем?
— К нему? Разве это такая станция?!
— Нет, дитя моё, станций больше уж не будет. Разве ты забыла, к кому мы едем? Это город; а это дом папы большого. Мы приехали к бабушке и дедушке.
«Это дом папы большого!» — подумала я в изумлении. И все мои понятия о дедушке и бабушке разом перевернулись. Мне вдруг представилось, что они верно очень богатые, важные люди; а что этот блестящий фонарь, в котором они жили, должен быть очень похож на дворец царевны Прекрасной, о которой рассказывала мне Антония.
— Лёля! Лёля!.. — начала я теребить свою сестру. — Проснись! Посмотри, куда мы приехали… К дедушке и бабушке!.. Вставай! Да вставай же!..
— М…м… — промычала Лёля. — Убирайся!..
— Не сердись, — сказала ей мама, — Верочка правду говорит: мы приехали. Посмотри-ка: вот дедушкин дом.
Всё встрепенулось и зашевелилось в нашей тёмной кибитке. Да она уж и не казалась нам тёмной теперь; полость откинули с одного боку, и свет, и шум городских улиц казались нам чем-то волшебным после сумрака, снежной мглы, тишины и нашей долгой скуки.
Мы въехали в каменные ворота большого дома, который я издали приняла за фонарь, и остановились у ярко освещённого подъезда.
Что тут произошло, — я не могу никак описать! Все и всё перемешалось, перепуталось…
С маминых колен я попала кому-то на руки. На крыльце другие руки какой-то молоденькой барышни, оказавшейся меньшой тёткой нашей, Надей, — перехватили меня и потащили на высокую, светлую лестницу. В передней было ужасно тесно. Все мы, моя мама, Антония, сестра, горничная Маша, мисс Джефферс, наша англичанка, — все перемешались с чужими, казалось, мне незнакомыми людьми, и все смеялись и плакали, ужасно меня этим удивляя.
Высокая, очень полная барыня, с добрым и ласковым лицом, в которой я не сразу признала свою дорогую бабушку, крепко обняла мою маму. Другая наша тётя, постарше Нади, тётя Катя, стала на колени перед Лёлей и крепко её целовала. Высокий, седой господин с другой стороны держал маму за руку, обнимая её тоже. Вся эта суета совершенно сбила меня с толку. Я ничего не понимала, обернулась ко всем спиной и пристально рассматривала какого-то огромного, синего человека, с длинными усами, белыми эполетами и белыми шнурками на груди. Он меня очень занял, этот голубой человек!.. Я боялась его немножко, но больше удивлялась, отчего это он один не смеётся и не радуется, а стоит смирно, вытянувшись у дверей, и смотрит на всё неподвижно, даже не сморгнув глазом?..
— А где же Вера? Где маленькая Верочка?.. — вдруг спросила бабушка, оглядываясь.
Все расступились предо мной, и высокий, худой господин в сером сюртуке поднял меня с полу и, поцеловав несколько раз, передал на руки бабушке.
Тут только узнала я в нём своего милого папу большого.
— Дорогая моя Верочка! — говорила, обнимая меня, бабочка. — Вот она, какая большая стала, моя крошка!.. Подросла, поправилась после пятигорских вод. Да посмотри же ты на меня!.. На кого это она так смотрит? — с удивлением обратилась бабушка к моей матери.
— Верочка! О чём ты думаешь?.. — спросила мама.
Я откинулась на руках бабушки и всё продолжала пристально глядеть на голубого человека…
— Кто это такой? — шёпотом спросила я, указав на него пальцем.
Все обратились в ту сторону, и все громко расхохотались.
— Жандарм Игнатий! — закричала, смеясь, тётя Надя.
— Вот смешная девочка! — переговаривались все, в беспорядке входя в большой, светлый зал. — Жандарма испугалась!
— Я совсем его не пугалась! — обиделась я, не понимая, чему смеются?
Но мой гнев ещё больше насмешил всех, и я стала переходить с рук на руки. Меня обнимали и целовали без конца до того, что я готова была расплакаться и очень обрадовалась, когда очутилась под крылышком бабочки. Она усадила меня возле себя на высокий стульчик, и все принялись за чай, весело разговаривая.
Разумеется, я равно ничего из этих разговоров не понимала да и не слушала их.
Сестра всё убегала куда-то с Надей; что-то рассказывала мне, возвращаясь, весело перешёптываясь с нашей тётушкой, которая была немногим старше её самой, но я ровно ничего не понимала и в их рассказах. Я с наслаждением пила свой тёплый чай и рассматривала очень внимательно большие портреты дам и мужчин, которые висели против меня на стене.
У одного из этих господ был тоже голубой сюртук как у жандарма в передней; у него только не было усов, а вместо белых эполет и шнурков у него были белые волосы, белое кружево на груди и большая белая звезда. Что за странность! Вот и у дамы с розой на плече тоже высокие белые волосы!.. «Отчего это у них у всех розовые щёки и седые волосы?..» — думала я.
Лицо моё горело. Перед глазами, смутно глядевшими на портреты моих прабабушек и прадедушек, носились разноцветные круги, искорки, узоры… Наконец, они окончательно слиплись, и голова моя упала на стол.
— А Верочка-то заснула! — услышала я над собою и вдруг почувствовала, что кто-то меня осторожно приподнял и понёс…
Мне так трудно было открыть глаза и так сладко дремалось, что уж я и не посмотрела, кто и куда несёт меня, и совершенно не помню, как уложили меня спать.
Много-много счастья и детских радостей помню я в этом милом, старом доме! Хотя в тот приезд наш в Саратов я была так мала, что многое слилось в моей памяти и, быть может, совсем бы из неё изгладилось, если б мне не привелось и впоследствии долго жить в этих местах, с этими самыми дорогими людьми.
Я уже говорила, что мы называли дедушку папой большим, в отличие от родного отца нашего, который, конечно, был гораздо моложе. Теперь надо ещё сказать, что бабушку мы всегда называли бабочкой. Почему — сама не знаю! Но так как я пишу не выдумку, а всю правду о своём детстве, то не могу называть её иначе. Вероятно объяснение этому прозванию находилось в том, что бабушка моя, очень умная, учёная женщина, между прочими многими своими занятиями любила собирать коллекции бабочек, знала все их названия и нас учила ловить их.
Оба они, и дедушка, и бабушка, ничего не жалели, чтобы тешить и забавлять нас. У нас всегда было множество игрушек и кукол; нас беспрестанно возили кататься, водили гулять, дарили нам книжки с картинками. Было у нас также много знакомых девочек. Некоторые из них даже учились с нами вместе.
Одну из этих девочек, любимую мою подругу, звали Клавдией Гречинской. К ней в гости я любила ездить, потому что у неё было много сестёр, которые всегда надаривали мне пропасть куколок, сшитых из тряпочек. Этих тряпичных куколок я любила гораздо больше настоящих, купленных в лавках кукол; может быть потому, что сама могла раздевать и одевать их опять в разные платьица, которых у них бывало по несколько.
Вот послушайте, какая смешная история случилась раз со мною из-за такой именно куколки.
Надо вам знать, что дом дедушки, который я ночью приняла за фонарь, был в самом деле большой дом, с высокими лестницами и длинными коридорами. На нижнем этаже жил сам дедушка, и помещалась его канцелярия. На самом верхнем были две спальни: и бабушки, и тётины, и наши. На среднем же почти никто не спал: там всё были приёмные комнаты, — зал, гостиная, диванная, фортепьянная. Ночью все эти комнаты были совсем темны и пусты. Другая девочка, пожалуй, побоялась бы и пойти туда вечером одна; но я была очень храбрая, и мне не приходило и в голову бояться.
Ну, вот раз я вернулась от Клавдии довольно поздно и привезла с собой в маленькой, качавшейся колыбельке крошечную куколку, спелёнатую в простынки и закрытую красным атласным одеяльцем. Возле колыбели, в стеклянном ящике, в котором она помещалась, лежало бельё и платье куколки; всё такое крошечное, что можно было надеть на мизинец. Ужас, как я была рада и как полюбила свою новую куколку! Всем я её показывала и даже, ложась спать, положила её с собою. Но, прежде этого, когда я прощалась с бабушкой, она меня спросила:
Я сильно задумалась и, наконец, отвечала:
— Как же это ты позабыла её окрестить? — улыбаясь продолжала бабочка. — Без имени нельзя. Надо её завтра окрестить. Ты меня позови в крёстные матери.
— Хорошо!.. А как же: ведь надо купель.
— Нет, купели не нужно. Ты знаешь, что водой нехорошо обливаться. Мы без купели окрестим её Кунигундой…
— Фу! Кунигунда — гадкое имя! — сказала я. — Лучше Людмилой или Розой.
— Ну, как хочешь. А теперь иди спать…
Я ушла наверх и легла, уложив с собой куклу, но долго не могла заснуть, всё думая о будущих крестинах без воды и о том, какое выбрать имя?..
Всё было тихо; все давно спали. Возле меня сестра, Лёля, мерно дышала во сне; на другом конце нашей длинной и низкой детской спала няня, Настасья. По всему полу, по стенам лежали длинные, серые ткани и, казалось мне, таинственно дрожали и шевелились…
Я привстала на кровати и осмотрелась.
Тени шевелились, то вырастая, то уменьшаясь, потому что ночник, поставленный на пол очень нагорел, и пламя его колебалось со стороны на сторону.
Я уж хотела лечь, как вдруг вспомнила о кукле, взяла её и начала рассматривать, раздумывая над нею.
«Как тихо!.. Вот бы теперь хорошо окрестить её! Никто бы не помешал. А то днём и воды не дадут… Не встать ли, да в уголку, около ночника и справить крестины?..»
Я тихонько спустила ноги с кровати.
«Нет! Здесь нельзя. Няня или Лёля проснутся… да и воды нет!.. А внизу ведь, в гостиной, и теперь стоит, — вспомнила я, — графин, полный воды: бабочке подавали, когда я прощалась, и верно его не убрали… Пойти разве вниз?.. А как услышат?.. Страшно!.. А зато, как там теперь можно хорошо поиграть, одной, в этих больших комнатах! Можно делать всё, что захочется… Пойду!»
Я тихонько спрыгнула на холодный пол, надела башмачки, накинула блузу и платочек и взяла куклу.
«А темнота? — вдруг вспомнила я. — Как же играть в темноте?.. Внизу ведь теперь нигде нет света».
Я огляделась и увидала на столе огарочек свечи. На цыпочках прокралась я к нему, взяла и, также неслышно, осторожно ступая, перешла комнату и наклонилась, с замиранием сердца, зажечь его к ночнику.
Уф! Как крепко билось моё сердце! С каким ужасом косилась я на спящую няню. Как боялась, чтоб она не проснулась, и как я вздрогнула, перепугавшись не на шутку, когда чёрная шапка нагара, тронутая моим огарком, свалилась с фитиля в ночник и затрещала, потухая…
Насилу я успокоилась и собралась с силой двинуться с места. Сколько раз останавливалась я, со страхом прислушиваясь: не проснулся ли кто, не зовут ли меня? — я и счёт потеряла! При каждом скрипе ступенек на лестнице, не смея идти далее, я вслушивалась в какой-то странный шум: то был шум и стук моей собственной крови в ушах; а я, слыша, как крепко колотилось у меня сердце, в ужасе останавливалась, думая, что это стучит что-нибудь постороннее!.. Наконец, лестница кончилась. Вот я внизу, в длинном, тёмном коридоре. Я сделалась смелей: здесь уж никто меня не услышит! Я быстро пошла к дверям зала и взялас
Висячие буфера пышной женщины (16 фото эротики)
Красивое натуральное тело девушки (фото)
Молодая блонда начала сосать пенис в ванной | порно и секс фото с молоденькими