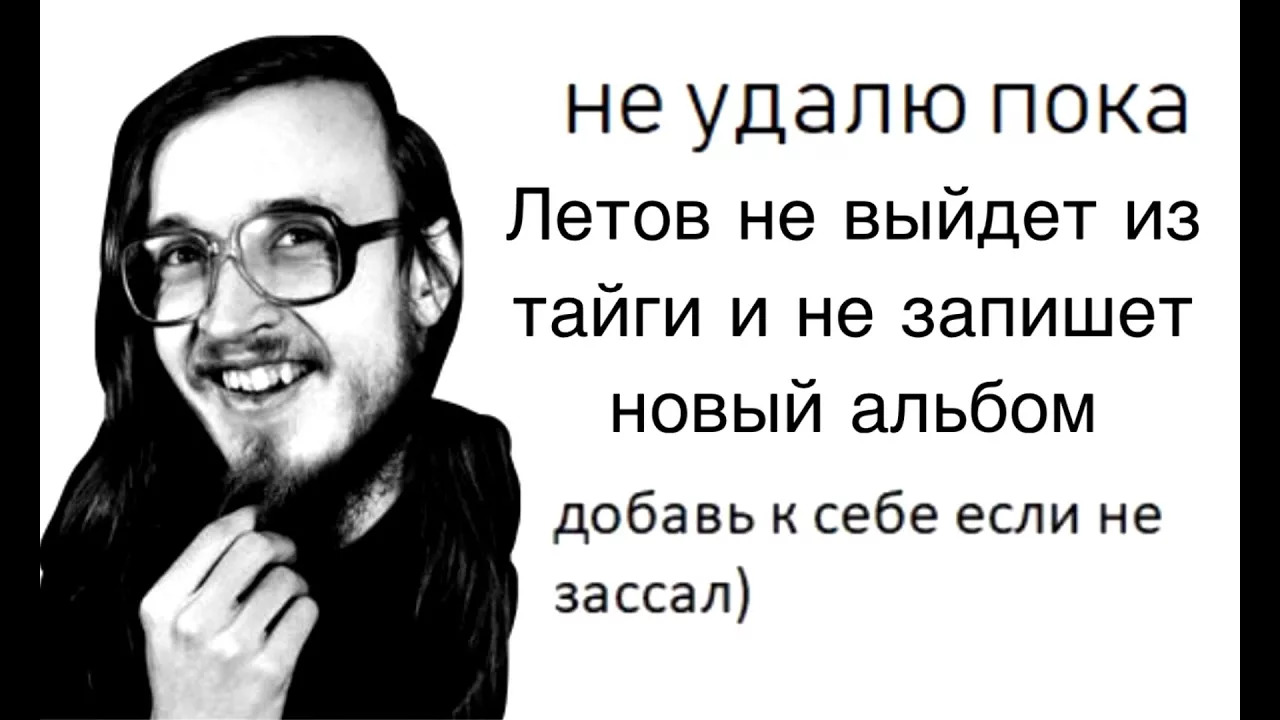Сколько продлятся Летов и Балабанов-2
Сергей Кулешов
БОГ
Ощупать бытие взглядом, слухом, словом, чтобы не только убедиться в его материальности, но и найти доказательство присутствия/отсутствия Бога – важная задача для многих художников (вспомните, хотя бы, беседы о русской культуре, которые протопресвитер Александр Шмеман вел на ныне запретном радио). «И красный трамвайчик проедет перед самым лицом словно резиновый и настоящий» - в этом раннем летовском стихе чуть ли не впервые продуцируется оптика того, кто вскоре засомневается в собственном существовании. Трамвай же, как известно, один из главных символов в творчестве Балабанова: то «заблудившийся», как в лишенных демиурга мирах «Счастливых дней» и «Брата», то курсирующий между чистилищем и адом, как в «Кочегаре» (2010). Он сообщает автору и его героям едва ли не языческие координаты: как выразился Юрий Сапрыкин, «хотя Балабанов неоднократно говорил в интервью о своем православии, его кино — совершенно дохристианское, тут правят слепые силы, которые неизбежно приводят к трагической развязке».
Его фильмографию можно и нужно, вместе с тем, рассматривать в разрезе неутомимого богоискательства. Монохромный, «больничный» Петербург «Счастливых дней», отдаленно отсылающих к творчеству Беккета, бросил ожидать не то, что спасителя, а даже злополучного Годо. Только испытав соблазны местных Ставрогина и Петруши Верховенского – Иоганна и Виктора Ивановича – обитатели мира «уродов и людей» дотумкали до существования благодати, но было, увы, поздно. Крестился и бандит-Панин в «Жмурках» (2005) - чтобы через считанные секунды велеть коллеге законопатить рот очередной жертве. Убежденный атеист профессор Громов встречал финал «Груза 200» в церкви, цепляясь за последнюю альтернативу светской энтропии. Герой «Морфия» смиренно принимал от священника благословение в последний путь, прежде чем вышибить себе мозги в темноте кинозала. Осознание двойственной природы кинематографа - божественной и дьявольской - всю карьеру мешало Балабанову. Умертвив в себе бесовское, читай – режиссёрское начало в «Я тоже хочу» (2012), репетируя перед камерой отходную молитву, постановщик впервые создал героя, добившегося таки аудиенции Господа. Нужно было почить в бозе во внутрикадровом пространстве, которое он всю жизнь лелеял и боготворил, дабы обрести призрачную надежду, что удастся вытянуть оттуда же многострадальную Колокольню Счастья.
***

«Православие и коммунизм – это одно и то же» - неоднократно рапортовал Егор Летов, суммируя сей посыл в хулиганское «Кто-то в небесах – словно серп и молот!». В его текстах легко обнаружить открытый антиклерикализм («Под столетними сугробами библейских анекдотов, похотливых православных и прожорливых католиков») и надрывные издевки в адрес высшей силы. Расстояние «от Христа до глиста» он начал ощущать не сразу: на первом этапе творчества готов был «показывать фигу облаку», потом – брататься со всевышним («Господь нам поможет – он классный чувак»), а позже – собирался его «оседлать» («Как однажды я // Бога хотел надурить…», 1994). Понимая, что православный Бог признает в нем «мудака» («На что я молюсь», 1994), Летов избегал очной ставки, заигрывая и с буддизмом («Будда», 1984), и с сатанизмом. В «Евангелии» собственного сочинения (1990) призывал «задушить непослушного Христа», как своего внутреннего, внимание, антихриста. Знал же о чем говорил: «Христос был Сатаной, потому что был в первую очередь — антихрист, т. е. человек, который нес полную свободу выбора, то есть то, что религия никогда не давала и сейчас не дает».
Музыкант боролся не с конфессиональными догматами: зачем пытаться переубедить кого-то, если одному только отцу-творцу и следует доказывать, что тот неверно понимает сам себя. Летовское богоборчество - единственный способ достучаться до небесной канцелярии, ворваться в рай в обеденные часы и «вдохновить Бога на подвиги». Кажется, ту власть, которую в представлении музыканта духовники и миряне получили над всевышним, обеспечила та самая функция «назвать» - Христосом, Аллахом, Гильгамешем и т.д. Ее порочную сущность и изобличал Егор, вдохновенно и ядовито сдирая с Бога ярлыки.
В финале своего творческого пути Летов, не растеряв антитоталитарного запала в том числе по отношению к высшим началам, обрёл поистине лавкрафтианское понимание того, что некоторые силы лучше не тревожить. Пусть «посторонние боги («Зиндевелые трупы берёз», 1995) и продолжали лезть в его искусство, говоря с ним «посредством лающей собаки, языка и переливающейся в нем свободы», в сознании они отпечатывались, прежде всего, «отдаленными и мерцающими» («После нас», 2003). Мистический анархизм, исповедуемый им на закате дней, позволил автору «изливать» из себя «небесную икоту», наплевав на невозможность амбициозного «переодевания в Иуду».
***

Богоискательство Балабанова и еретическое фрондерство Летова так и хочется подвести под те же разночтения, отысканные Мережковским у Достоевского и Толстого. Панк из Сибири, подобно графу из Ясной Поляны, отличал «того Христа, которого хочет знать» от того, которого знать «не готов». Обоих интересовала не столько фигура Иисуса, сколько проявление божественного инстинкта в живых существах, вибрации инобытия внутри повседневности. Душе продавшего принципы или ставшего элементом орнамента масс эти двое могли отказать в бессмертии.
Как замечает протоиерей Георгий Ореханов, «для Толстого Христос — только учитель, пусть и великий учитель. Это этический критерий, но он не хочет — скорее не может — видеть Христа. Для Достоевского главное здесь — не слышать, а именно видеть». Чтоб не орудовать ленивой и одутловатой оппозицией слуха (музыка) и зрения (кинематографа), следует напомнить, что первое предполагает, в дионисийском смысле, одномоментное и инстинктивное понимание сути стихийного импульса, а второе – возможность «зумировать». Балабанов подобен Достоевскому в своих попытках собрать лик господен по косточкам «униженных и оскорбленных» героев. Его интересует извилистость пути, изветливость движения человеческой души, алчущей святости в эпицентре катастрофы. Только такой взыскующий взгляд мог найти в полной разлагающихся прокаженных юрте иконостас: сколь близок здесь был автор к критической точке своих поисков, столь трагической предстает незавершенность «Реки» (2002).
Всеохватное прахристианство Летова и судорожная религиозная рефлексия Балабанова вместе составляют основу всякой известной нам религии. Объять иное одним махом и канючить Бога по капле – между этих полюсов, как заведено, обитают ангелы.
СМЕРТЬ

И Летову, и Балабанову безразлична точка, соединяющая отрезок жизни с курсивом посмертия. Первый был способен одной своей подачей убедить слушателя в том, что он, автор песни «Мне смешно – я все еще не умер» (1986) и, одновременно, строк «Я простудился, умер, мне спокойно и смешно» и «Жить смешно – помирать грешно», последний избежавший «ошибки выжившего». Учел, значит, все возможные варианты, постоянно перебираясь из «дома, похожего на гроб» в «мир, загробный как жизнь», выбирая между Богом и Смертью в пользу последней («Война», 1988), ища «секретную калитку в пустоте». От экстремисткой рефлексии самоубийства («Я вскрыл себе вены, словно чужое письмо») он пришел к поздней покорности перед начертанным, порядка «потом сразу стало нигде» и «Я ушел под дождь и меня больше нет». Мертвым грузом лежит в интернете целый блок текстов, осмысляющих отношение Летова к трупам: они у него то «не сеют и не жнут», то «шуршат газетой, лазят в интернет». Периодически воспевая зыбкость границ между жизнью и смертью, лидер «ГО», в большей степени, постулировал позицию, схожую с изысканиями уже упомянутого Макса Штирнера: мир существует, пока в нем пребываем мы, а после нашего ухода он оказывается куском пластмассы («Когда я умер, плевком замерзли дорогие конструкции»).
***
Балабанов же сознательно опускал обстоятельства летально-метафизического исхода людей, городов, страны: его застрявшие в вечном чистилище герои потому столь озлобленны на посюсторонних «соседей», что те не дают ни назад вернуться, ни «ног протянуть», как говаривал протагонист «Счастливых дней». Ледник несет маньяка Иоганна в безвременье, а самодельный плот тащит жертв «Войны» по импровизированному Стиксу – спросите, чем не освобождение? Отнюдь: исход первого сопровождает мутация экрана – ч/б сменяется коричневатой сепией -, корреспондирующая о том, что дьявол таки обессмертил себя на пленке. Вторые своей попыткой выбраться из царства мертвых напоминают Орфея – и Персефона является в виде боевых вертолетов, богов войны, напоминающих, что обнаружить себя прежними на гражданке не получится (вспомните финальный монолог героя Чадова).
«Жизнь проста – человек рождается, живет, умирает…». В этих словах режиссера не стоит искать доказательств его посконности или утомленности от журналистских штудий. Скорее – антитезу к его кино, в которой эта естественность невозможна. К тому же, самоубийства, венчающие три последние его картины, - это самые безжалостные по отношению к зрителю, но самые щадящие по отношению к героям финалы за всю его карьеру. Отомстив «плохим людям», режет вены контуженный ветеран-якут; не в силах совладать с пришедшей эпохой, стреляется врач-наркоман; в бегах от смерти пропадают в счастье (?) герои «Я тоже хочу», а сам режиссёр, как уже было сказано, деревенеет на снегу. Снегом уже заканчивались и «Замок», и «Брат», и «Про уродов и людей» - белоснежным, выгнавшим солнце своим сиянием. О светиле ещё успеем поговорить, но противопоставление снега и солнца, как жизни и смерти, как макета и естества, для Балабанова является едва ли не определяющим. У Летова на эту тему есть подходящий опус, идеально рифмующийся с тем же «Замком», молящий, как и все творчество режиссера, за упокой неупокоенных:
Ласковый
Ласковый ветер
Ласковое солнце
Ласковый снег
Ласковый
Ласковые
Повторял повторял молодой человек
Продираясь сквозь толщу
Столетнего снега.
СОЛНЦЕ

Не имей я отношения к этому тексту, спросил бы - а почему, к примеру, не война? У обоих есть произведения под оным названием, оба имели собственные представления о Великой Отечественной, афганских событиях и боевых столкновениях в Чечне. С «миром» вот только никак не ладилось: для них всюду фронт, в бандитских ли угодьях или в пространстве нескончаемой войны с самим собой. Демилитаризованная зона существует где-то за рамкой кадра, за пределом очередного диска-бутлега; она вымарана из памяти персонажей. Напротив, бойня становится перманентной для Ивана, героя балабановской «Войны», выскользнувшего из чеченского плена, но не сумевшего абортировать в себе инстинкт убийцы. «В проигранной войне сопротивляйся до конца», как пел Летов.
***
Афоризм Ларошфуко - «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор» - странным образом перекликается с ранним летовским «оптимизмом»: «Тот, кто смотрит на солнце - почти что уж мёртв». В представлении Егора светило является атрибутом запределья, чем-то с «той» стороны, «прозрачной начинкой». В этом смысле, в строке «я смотрю на солнце, я не смотрю на солнце», обнаруживается очередное доказательство его тяготения к пограничью. Ещё более наглядно это можно услышать в знаменитом «Прыг-Скоке»: «Ниже кладбища, Выше солнышка» пребывает его «виноватый уродец», застрявший между жизнью и смертью.
Текстологический анализ менее показателен, чем беглый взгляд на дискографию автора. Песни «Он увидел солнце» (1986) и «Солнце неспящих» (2003), стих «Солнечный зайчик взломал потолок» (1993), альбом «Солнцеворот» (1997) - вот прямые указатели на влияние этого образа на творчество Летова. Солнце «взирает на его забытьё», оно «кромешное», «холодное, мёртвое», оно «движется туда, где ещё никто не умирал» и «зовёт в поход на гибельную стужу». И, одновременно, «солнце помогает», «горит, пиздатое, на все времена» и светит «для живых, для неспящих, для свободных».
Легко заметить, как взросление Егора сопровождалось его смирением со смертью, а значит и с обретением «солнечного зрения», и с тем, что «жалкая часть меня в космическом желает своего солнышка». Ну и пусть «лишь через веселый труп Солнце Звенит, сияет так, как оно есть»: ставший благодушным Летов уповает на освобождение материального мира от статуса зомби-фермы. Если сперва светило представлялось ему символом длящегося отчаяния, постоянно требующим «очереди на холодном углу», то затем безнадега девальвировалась, уступив место смиренной мечте о вечном сиянии «на все пиратские времена». Будто признал наконец, что сумел на считанные мгновения перехватить «солнечный зайчик незрячего мира», сжать его в кулаке и треснуть - по крайней мере, до того, как заморгают новые «стеклянные глаза».
***

Дорога от Луны к Солнцу, парадигмальное движение сквозь ночь ко дню - вот нескрываемая сущность творческого метода Балабанова. Лунный диск появляется во всех его фильмах: где-то - на периферии кадра, где-то, как в «У меня был друг», занимает весь экран, фиксируя предательское прикосновение девушки-зазнайки к подпольному миру. Месяц же взойдёт над жилищем «солнцепоклонника» Алексея в «Грузе 200», предупреждая о страшном несчастье.
При этом, вплоть до последнего фильма, солнце в кино Балабанова проникало лишь исподволь - отсветами, грубыми подмигиваниями, лихорадочными всполохами. Оно то восходит над захлебнувшимися в крови и насилии Кавказскими горами («Война»), то рябит на лице приговорённых к медленному умиранию («Река»), то обвязывает своими лучами сваленные в кучу трупы («Жмурки»). В «Брате 2» оно заглядывает в американские небоскребы, осмеивая спорные рассуждения о природе правды. Во «Мне не больно» (2006) оно - тёплое, осеннее - прикрывает смертельную болезнь героини Ренаты Литвиновой.
Как у Летова тесно связаны образы солнца и смерти, так у Балабанова изменение состояния небесного светила, его направленности и акупунктурности, сопровождают богоискательство художника. Пока встреча с Господом откладывается, колесница дня путается с колесницей ночи, реверс притворяется аверсом. Мечты о кампанелловском «Городе солнца», как показывает история самогонщика Алексея (не зря он получил имя самого режиссёра) из «Груза 200», обречены на провал, ведь эта утопия предполагается альтернативой христианскому Раю - а он, кажется, навсегда утрачен. Где-то в вышине торчит бесприютным полуфабрикатом солнце, пока демиург, спустившись в «Я тоже хочу» на землю, не принимает таки светило за божество.
***
Кладбищенское тяготение своего места
Фантазийную географию новоявленного себя
Стратегически избранные окраины
Героические перелески
Белые поля.
А снег наступает вскипает идёт —
Все они не хотели.
Они старались как могли.
Вот отрывок из одного из последних стихов Летова, «Как все это кончается». Удивительно, как на уровне настроения и атмосферы он предсказывает происходящее в «Я тоже хочу» Балабанова. Раскуроченное пространство, в котором русская хтонь уживается с православной метафизикой, и белые поля из снега, припорашивающего доминантный апокриф «все они не хотели», но «старались как могли». Егор ещё в самом начале карьеры догадался о том же, в чем чуть погодя убедился Алексей: Луна - это обманка, нечто загримированное под солнце («И вот лежит в моей ладони прозрачная начинка солнца <…> чуть тронешь - брызнет сок, подобный лунному сиянию»). Если реальность ошпаривающего светила проступает в загробном мире, то мимикрирующий под него своей белизной снег - чистая примета чистилища («Я медленно таял в снегах <…> холодное, мёртвое солнце»). Кататонического, как в «Замке» и «Морфии», манящего, как в «Брате» (если поездка в Америку во второй части - эвфемизм самоубийства, то дорога на Москву по снежной трассе в первой - метафора продолжения саморазрушения) и «Я тоже хочу». На пути от Луны к Солнцу стоит снег: сколько его не «заклинай», он сам решит, когда проступить сквозь декорации. Сквозь бандитский Петербург, уездный город N, сцену Новосибирского рок-фестиваля или партбилет НБП под почетным 4 номером.
Пролог.
Между нашими героями и Властью, Богом, Смертью, Солнцем бесновались все те же метели. Робкая попытка взглянуть, где пересекаются их следы на снегу, продиктована желанием понять, как теперь нам самим сокращать расстояние с Летовым и Балабановым, как преодолевать очередную снежную бурю. И коль эти двое не мнили себя проповедниками, проводниками - как научится у них хотя бы разглядывать солнце, отличать его с прямотой юнгеровского «анарха» от подлунных мистерий и морозной ворожбы. И не испугаться, если что, вердикта, подобного приговору Мережковского: «Л. Толстой и Достоевский — эти две вершины русской культуры — озарились первым лучом страшного солнца, которым не озарялась еще ни одна из вершин культуры западноевропейской. Это страшное солнце есть мысль о конце всемирной истории».