«Сколько будет шестью девять?» и другие трудности техногенного человека
@psihoziumЧто мы знаем о себе? О том, как мы мыслим, как устроено наше сознание, в чем мы могли бы обрести смысл? И почему, пользуясь достижениями науки и техники, мы так мало доверяем научному знанию? Философу Данилу Разееву мы решили задать по-настоящему глобальные вопросы.
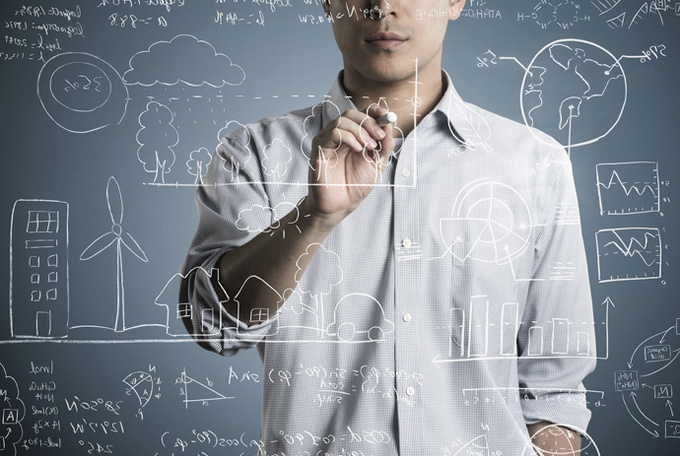
ФОТО Getty Images

@psihozium: Где искать смысл современному человеку? Если у нас есть потребность в смысле, то в каких сферах и какими способами мы можем его для себя найти?
Данил Разеев: Первое, что мне приходит в голову, – творчество. Оно может проявляться в самых разнообразных формах и сферах. Я знаю людей, у которых творчество выражается в выращивании комнатных растений. Я знаю тех, у кого творчество проявляется в муках создания музыкального произведения. У кого-то оно возникает при написании текста. Мне кажется, что смыслополагание и творчество неразделимы. Что я имею в виду? Смысл присутствует там, где есть нечто большее, чем простая механика. Иными словами, смысл нельзя свести к автоматизированному процессу. Современный философ Джон Серл (John Searle)1 придумал хороший аргумент, затрагивающий различие между семантикой и синтаксисом. Джон Серл считает, что механическое комбинирование синтаксических конструкций не ведет к созданию семантики, к возникновению смысла, в то время как человеческое сознание действует именно на семантическом уровне, порождает и воспринимает смыслы. Вокруг этого вопроса уже несколько десятилетий ведется обширная дискуссия: способен ли искусственный интеллект на создание смысла? Многие философы утверждают, что если мы не поймем правил семантики, то искусственный интеллект навсегда остается только в рамках синтаксиса, поскольку у него не будет элемента смыслопорождения.
«Смысл присутствует там, где есть нечто большее, чем простая механика, его нельзя свести к автоматизированному процессу»
Какие философы и какие философские идеи вам кажутся наиболее актуальными, живыми, интересными для сегодняшнего человека?
Д. Р.: Это зависит от того, что имеется в виду под сегодняшним человеком. Есть, скажем, универсальное понятие человека, человека как особого вида живых существ, который когда-то возник в природе и продолжает свое эволюционное развитие. Если рассуждать о сегодняшнем человеке с этой точки зрения, то мне кажется, что очень полезным будет обращение к американской школе философов. Я уже упоминал о Джоне Серле, я могу назвать Дэниела Деннета (Daniel C. Dennett)2, Дэвида Чалмерса (David Chalmers)3, австралийского философа, который работает сейчас в Нью-Йоркском университете. Мне очень близко направление в философии, которое называется «философией сознания». Но общество, для которого говорят американские философы в США, иное, чем то общество, в котором живем мы в России. В нашей стране есть много ярких и глубоких философов, называть конкретные имена я не стану, это может прозвучать не совсем корректно. Однако в целом, как мне кажется, в отечественной философии еще не закончился этап профессионализации, то есть в ней осталось многое от идеологии. Даже в рамках университетского образования (а в нашей стране, как и во Франции, каждый студент должен прослушать курс философии) студенты и аспиранты не всегда довольны качеством тех образовательных программ, которые им предлагают. Тут нам предстоит пройти еще очень длинный путь, понять, что философствование не должно быть связано с работой на государство, на церковь или группу лиц, требующих от философов создания и обоснования каких-то идеологических конструкций. В этом отношении я поддерживаю тех людей, которые выступают за философию, свободную от идеологического давления.
Чем мы принципиально отличаемся от людей прежних эпох?
Д. Р.: Если вкратце, то при нас наступила эпоха техногенного человека, то есть человека с «artificial body» и «extended mind». Наше тело есть нечто большее, чем биологический организм. А наш ум есть нечто большее, чем мозг; это разветвленная система, которая состоит не только из мозга, но и из большого числа предметов, находящихся вне биологического тела человека. Мы используем приборы, которые являются продолжением нашего сознания. Мы жертвы – или плоды – технических устройств, гаджетов, приборов, которые выполняют за нас огромное количество когнитивных задач. Я должен признаться, что пару лет назад у меня случилось очень неоднозначное внутреннее переживание, когда я вдруг осознал, что не помню, сколько будет шестью девять. Представляете, я не смог выполнить в голове эту операцию! Почему? Потому что я уже давно полагаюсь на extended mind. Иными словами, я уверен, что какой-то прибор, скажем, айфон, перемножит эти цифры за меня и выдаст мне правильный результат. Этим мы отличаемся от тех, кто жил еще 50 лет назад. Для человека полувековой давности знание таблицы умножения было необходимостью: если он не мог умножить шесть на девять, то проигрывал в конкурентной борьбе в социуме. Надо заметить, у философов есть и более глобальные идеи о мировоззренческих установках человека, жившего в разные эпохи, например о человеке фюсиса (природный человек) в Античности, человеке религиозном в Средневековье, человеке-экспериментаторе в Новое время, и этот ряд завершает современный человек, которого я назвал «человеком техногенным».
«Наш ум состоит не только из мозга, но и из большого числа предметов, находящихся вне биологического тела человека»
Но если мы полностью зависим от гаджетов и во всем полагаемся на технологии, у нас должен быть культ знаний. Как случилось, что множество людей утратили доверие к науке, суеверны, легко поддаются на манипуляции?
Д. Р.: Это вопрос доступности знания и управления информационными потоками, то есть пропаганды. Невежественным человеком проще управлять. Если вы хотите жить в обществе, где вам все подчиняются, где все выполняют ваши приказы и распоряжения, где все работают на вас, то тогда вы не заинтересованы в том, чтобы общество, в котором вы живете, было обществом знания. Напротив, вы заинтересованы в том, чтобы это было общество незнания: суеверий, слухов, вражды, страха… Это, с одной стороны, универсальная проблема, а с другой – проблема конкретного общества. Если мы, например, переедем в Швейцарию, то увидим, что ее жители по любому, даже самому ничтожному с нашей точки зрения поводу проводят референдум. Они сидят у себя дома, размышляют о каком-то, казалось бы, простом вопросе и вырабатывают собственную точку зрения, чтобы затем прийти к консенсусу. Они коллективно используют свои интеллектуальные способности, готовы к тому, чтобы принимать ответственные решения, и постоянно работают над повышением уровня просвещенности в обществе.
Понравилось? Ещё больше статей на нашем телеграм канале