Сделал с негритянкой то о чем так мечтал Маяковский
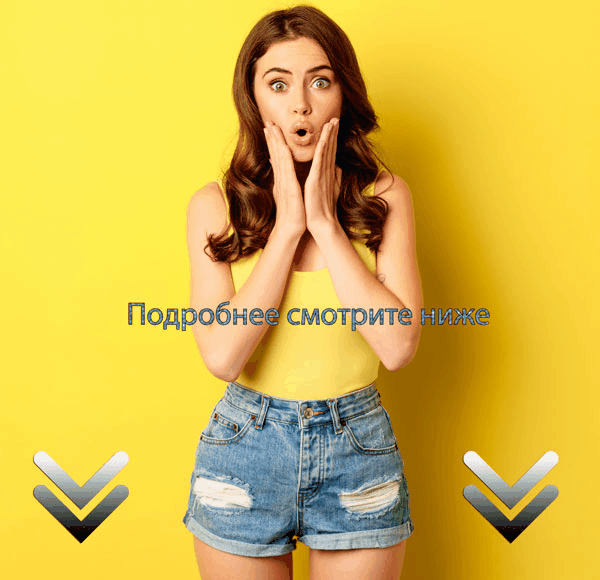
🛑 ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Сделал с негритянкой то о чем так мечтал Маяковский
Об авторе | Юрий Ряшенцев (1931 г.р.) — поэт, переводчик, прозаик. В 60-70-е годы — сотрудник журнала “Юность”. Автор зонгов к спектаклям “История лошади”, “Бедная Лиза”, “О, милый друг”, “Гамбринус” и др.; песен к фильмам “Д’Артаньян и три мушкетера”, “Гардемарины, вперед!”, “Забытая мелодия для флейты”, “Андерсен” и др. Автор русской версии мюзикла “Метро”. Сборники стихов: “Часы над переулком” (1972), “Иверская сторона” (1986), “Дождливый четверг” (1990), “Прощание с империей” (2000) и др.; книга прозы: “В Маковниках и больше нигде” (2001).
Настоящая публикация — фрагменты из книги воспоминаний.
Если есть на земле человек, которому противопоказано писать мемуары, то это я. Перо мое плохо приспособлено для фундаментальных воспоминаний — что для “былого”, что для “дум”. И вообще память у меня странно устроена. Я помню в основном смешное или забавное, что случалось с людьми, о которых пишу. И не то чтобы я забыл о грустном или печальном, что с ними происходило. Но это грустное или печальное осталось на периферии сознания, воплотилось в других жанрах, к которым мне случалось прибегать: в стихах, в прозе, иногда драматургии… Дело, возможно, еще и в том, что ХХ век жил страшноватой жизнью и, может, поэтому много смеялся. Это его свойство отразилось в характерах людей, которые так или иначе определяли свое время...
Живу я долго. Когда меня трехлетним привезли в Москву из Ленинграда, я обнаружил в себе предрасположенность к ностальгии, которой, казалось, не на чем было базироваться. Моя нянька рассказывала, что, когда мы гуляли с ней по новому для меня месту, я спросил у нее, как называется эта улица. “Большая Пироговская”, — ответила нянька. Я тяжело вздохнул: “А у нас там — Большая Пушкарская...”. Нянька с ужасом и умилением рассказывала об этом маме.
Москва 30-х годов в окрестностях Большой Пироговской напоминала рабочую слободу. Жили здесь в основном горожане в первом поколении. Большинство было тесно связано с деревней. Привычка к деревне и в столице пыталась не сдаваться, возникая то петушиным криком, то хрюканьем поросенка в сарае. Сараи покрывали весь громадный двор, образованный рабочими кооперативами фабрик “Гознак” и “Красная Роза”. По двору носились полуметровые крысы.
Кооперативы были кирпичные, четырехэтажные. В каждой квартире жили, гуляли и дрались по две семьи. По праздникам из окон доносились звуки гармошки и проникновенное повествование об удалом Хас-Булате — как некое заблаговременное предупреждение о суровости чеченского человека, вовремя нами не услышанное, хотя раздавалось оно неуклонно и аккуратно.
Посреди двора, между сараями, где повизгивала, похрюкивала и покрякивала разная живность, с которой не желало расставаться сердце новоявленных ткачей и печатников, стояли глубокие лужи. Когда семья моя, переселявшаяся из ухоженного Питера, въехала во двор, в самой глубокой луже сидел мой ровесник, мрачно расплескивая коричневые волны. В окне второго этажа стояла его мать, тщетно к нему взывавшая:
— Олега-а! Оле-ег! Иди домой, я тебе подушечку да-ам!
Я еще не знал тогда, что “подушечка” — главное лакомство этого ареала: конфетка с повидлом внутри.
Около лужи стояла старушка. Она говорила:
— Олег, что ж ты мамку не слушаешь? Она вон тебе подушечку обещает.
Олег, не переставая устраивать шторм в луже, кратко, но убежденно отвечал:
Очень скоро мы с ним подружились. И я навсегда снял красный бархатный костюмчик со штанами до колен как одежду, абсолютно не пригодную в условиях красной рабочей слободки...
Я провел в этом доме всю свою жизнь. Сейчас в нем осталось три-четыре человека от той мощной, разнокалиберной ватаги пацанов и девах, которая объединялась коротким, как тычок кулака, словом “двор”. У двора были свои законы, нарушив которые ты становился изгоем. И тогда ничто не могло спасти тебя от унижений. Главный из законов был — не жаловаться взрослым, когда и если тебе перепало. Впрочем, правила дворовой жизни хорошо известны, и о них нет необходимости рассказывать. Скажу только, что интеллигенции во дворе почти не было и сын аптекаря Борька Иоффе, прозванный кем-то не очень разбиравшимся в родном языке “жидомором”, вынужден был хулиганить и драться в два, а учитывая национальность, может, и в три раза чаще остальных обитателей двора.
Интересно, что возрастной разброс дворовых ребят не мешал им, как бы сейчас сказали, “тусоваться” всем вместе. Это создавало странный, присущий только тому времени фон, когда семилетние дошкольники и шестнадцатилетние амбалы постигали в интересных беседах жизнь в ее самых затейливых проявлениях, включая интенсивные контакты полов.
Кроме стандартных дворовых игр, таких как “колы-забивалы”, “штандер”, “двенадцать палочек”, лапта, “круговая лапта”, “казаки-разбойники”, во дворе процветали страшноватые, придуманные воспаленным патриотическим сознанием дворовой шпаны игры “в шпионов и НКВД”. Помню, как меня, самого маленького, чтобы отвязаться, назначили в такой игре “Ежовым”, то есть знаменитым в ту пору вождем органов внутренних дел. Я должен был сидеть на пеньке и подписывать расстрельные бумажки “шпионам”, которых мне изредка приводили на суд и расправу. Игра, таким образом, в противоположность суровой действительности, шла как бы мимо меня, и я, в сознании собственной значимости, сидел и не мешал старшим.
Дома были окружены палисадниками. Росли акация и боярышник. По листьям ползали громадные голубые гусеницы. Я, помню, пытался вывести из них бабочку, она, как мне казалось, была бы необычайной красоты. Но у меня ничего не получилось. Может быть, в связи с вышеупомянутыми играми был забит настоящий интерес к естественным процессам.
Потом, после войны, все дворовые игры вытеснил футбол. Сараи к тому времени снесли. Образовался пустырь, где можно было играть. Мяч стал кирзовым солнцем двора. Он был всегда один. И, когда камера лопалась, наступали серые сумерки, покуда не заклеивали латаную-перелатаную старую.
Очень важно, что у нас был свой сад. Он примыкал к нашему кварталу. Громадный, запущенный, с тучами вечно орущих ворон. Это была бывшая усадьба Трубецких, но тогда никто из нас над этим не задумывался. Так же, как и над названием сада, какое-то время жестяными буквами торчавшим над входом в него. Из названия следовало, что перед тобой был “Сад имени Мандельштама”. Поэт Мандельштам к тому времени исчез, сгинул, не упоминался. Но его стихи знали мои старшие сестры-филологини. Я и мои друзья по двору о нем, понятно, и не слышали. И уж совсем не слышали мы о партийном деятеле, имя которого было присвоено саду. Название, может, в силу нетривиальности и звучности фамилии прижилось. Жестяные буквы вскорости сняли. Но с народной привычкой властям совладать не удалось. Таким образом, на протяжении всего советского периода в городе существовал сад имени опального поэта. Деятеля никто не помнил, а поэт становился все знаменитей.
Позже, в 70-е годы, ко мне заехали приятели из Питера. Это были, по выражению моего друга Асара Эппеля, типичные “ленингроиды”. У нас зашел спор о преимуществах городов, в которых мы живем. Такой типичный спор ленинградца с москвичом. “А у нас — Исаакий!” — “А у нас — Василий Блаженный!” Дошло до того, какому из городов больше принадлежит Мандельштам.
— Да у вас даже места нет, которое бы его имя носило!
Веду их мимо новых роскошных домов ЦК и Совета министров, построенных на месте бывших кошмарных бараков строителей Метростроя, прямо к нашему саду. Навстречу бабушка с авоськами. Я спрашиваю:
— Бабушка, не скажете, что это за садик такой?
Ленингроиды были поражены и раздавлены.
Так вот, сад Мандельштама до войны был местом гулянья Хамовников. Этому способствовало наличие в нем прудов замысловатой конфигурации с мостиками и островом, а также дощатого кинотеатра, где мы по нескольку раз смотрели “Чапаева” в тщетной надежде, что уж на этот раз Чапай выплывет. Почти все мои ровесники ходили — в подражание чапаевской бурке — в пальтишках, застегнутых на одну верхнюю пуговицу, при этом рукава болтались пустыми. Гулянья носили характер довольно чинный, хотя и не без традиционного в слободе мордобоя. Кавалеры катали на лодках своих дам, угощали круглым в вафлях мороженым. Все немного походило на кадры советских фильмов того времени, в остальном на настоящую жизнь абсолютно не похожих.
Во время войны сад резко изменился. Заборы вокруг него стали глухими. Москва той поры вообще была городом заборов. Сад Мандельштама на долгое время оказался в полном распоряжении пацаньих орд. Забор помехой не был. Сторожа, однажды пошедшие на столкновение с окрестными огольцами, больше этой ошибки не повторяли.
Потом, уже в 50-е, забор был заменен на металлическую ограду. Районные власти пытались придать саду Мандельштама цивилизованный вид. Но еще долго, до конца ХХ века, мрачноватый сад оставался по ночам раем для влюбленных студентов педагогического, медицинского и Института тонкой химической технологии. И внуки и внучки ворон нашей юности орали над их головами, верша свои разборки. А может, это были те же самые птицы — говорят, вороны живут дольше нас.
Сейчас ровно в восемь вечера происходит ежедневное изгнание из рая влюбленных пар. Производится оно одетыми в черные комбинезоны ангелами вооруженной охраны. Парк “Усадьба Трубецких” закрывается. Воронам, впрочем, на это наплевать.
...Наш двор окружали разные интересные места: кавалерийский Хамовнический плац, морг при медицинском институте, сумасшедший дом, так называемая “Сумашека”.
Московский государственный пединститут в ту пору не вызывал у меня такого интереса. Кто бы мог подумать, что именно в этом роскошном здании мне придется провести немало лет и приобрести крепкие связи на всю жизнь...
Максим Кусургашев, Юрий Визбор, Владимир Красновский, Семен Богуславский, Юрий Коваль. Этих людей уже нет. К счастью, со мной Юлий Ким и Петр Фоменко.
…Петр Фоменко попал в пединститут случайно. У него что-то не заладилось в театральном. В институте он считался чудаком, потому что первыми пропускал девушек в дверь: в нашем институте, где все куда-то летели, он никуда не торопился. И вообще был, что называется, “хорошо воспитан”. На фоне общего разгильдяйства и панибратства он выглядел совершенно “нездешним”, может быть, поэтому Юрка Визбор и лидер нашей самодеятельности Володя Красновский при виде Пети всегда пели нечто странное на мотив проигрыша из “Опавших листьев” Ива Монтана:
Но на иностранца Петр не походил, а походил он на тех русских интеллигентов, о которых только в анекдотах можно было услышать. Притом было ощущение, что у него это сходство не только врожденное, но он его еще легонько имитирует. Он как будто бы нас всех необидно разыгрывал. Тем не менее все его любили, и чем дальше, тем больше. Какое-то он сразу же внушал почтение.
Вместе с Володей Красновским Фома играл в знаменитом литфаковском капустнике. Фоменко был диссертант, а Красновский — юкагир, которого этот диссертант привез для иллюстрации своей диссертации. Диссертация называлась “Виртуальные случаи введения жаргонизмов, неологизмов и варваризмов в северные бурлески нашего времени” — такое название придумал ей Борька Вульфов, специально для этого порывшийся в словарях. Фома был, надо признать, в этой роли очень натуралистичен, даже, я бы сказал, физиологичен. Он после каждого тезиса бурно полоскал горло и выплевывал воду обратно в стакан, стоящий перед ним на кафедре. Красновский между тем тихо стоял в вывернутой наизнанку шубе около кафедры, опираясь одной рукой о вертикально упертую в пол гитару, а в другой держа дымящуюся трубку. По сигналу диссертанта он клал трубку на кафедру, рядом со стаканом, и со странной мимикой начинал выстукивать по днищу гитары дикие “юкагирские” ритмы. При этом он пел:
Последняя частушка выражала сознательность жителя советского Севера, согласного быть ограбленным, лишь бы родная машинно-тракторная станция (хотя какие на Крайнем Севере МТС?) не понесла урона.
Оба имели у аудитории бешеный успех.
Правда, на следующий день все мы, авторы капустника, были приглашены к Поликарпову, знаменитому директору института, который до того командовал Союзом писателей и которому Сталин объяснял, что у него, у Сталина, других писателей для Поликарпова нет.
Насколько я помню, кроме наших капустников, Петр Фоменко участия в самодеятельности избегал. Как мы и предполагали, после окончания пединститута Фома вернулся к театральной деятельности.
В 1955 году он вместе с Феликсом Берманом ставил спектакль по пьесе Константина Финна “Беспокойное наследство”. Дело происходило в театре на Спартаковской улице, которым руководил Андрей Александрович Гончаров. Пьеса режиссерам не очень нравилась. И в поисках усиления зрелища Петр придумал появление на сцене персонажа, который к началу пьесы уже благополучно умер, стал, что ли, пароходом (похоже, становиться после смерти пароходами — было любимым занятием советских людей). Он ходит по сцене, вмешивается в действие и при этом говорит, в отличие от живых, стихами. Но автору об этом замысле режиссеры предпочли до премьеры не говорить. Зная непростой характер драматурга, на репетиции Фоменко выставлял свободного артиста, так сказать, на стреме, чтобы предупредить в случае чего. При приближении Финна дежурный артист вопил: “Шухер!” — и персонажа со сцены тотчас убирали.
Стихи для этой подпольной фигуры должен был написать я. И несколько песен для спектакля — тоже. Музыку сочинял знаменитый композитор Модест Табачников. Не помню сейчас, чем кончилось дело. Кажется, на премьере разразился скандал, и Финн добился исключения воскресшего без его ведома героя в дальнейших спектаклях. Но сама история с мертвецом, говорящим стихами, — совершенно из репертуара молодого Петра Фоменко, ныне, к счастью и совершенно заслуженно, нашей общей гордости и любви.
Талант и независимость привели к тому, что ни в Москве, ни в Ленинграде для Фоменко не нашлось работы. Ему пришлось уехать в Тбилиси.
Рассказывают, что однажды после поздно закончившейся репетиции актеры во главе с Петей искали, где бы поужинать. Время было советское, и даже в Тбилиси после одиннадцати непросто было обрести такое место. Наконец удалось найти где-то на пятом этаже кабачок, куда их пустили, но очень нехотя. Швырнули на грязную скатерть какие-то засохшие закуски, поставили бутылки с минеральной водой. Но вдруг в зале появился толстый важный человек, вокруг которого вьюном завертелись официанты. Человек увидел бедных артистов, что-то скомандовал, и все мигом переменилось за актерским столом. Появилось отличное вино, расцвели на свежей белоснежной скатерти разные лобио, пхали и джонджоли, запахло шашлыками. Пошло грузинское застолье, во главе которого восседал щедрый тамада, поивший и кормивший тбилисскую богему. Когда было уже достаточно выпито, хозяин стола встал и произнес следующее:
— А сейчас я хочу выпить (а кто не захочет со мной выпить — я прямо из окна выскочу!) за великого человека (а кто со мной не согласен — я прямо с пятого этажа вниз головой!), за лучшего сына этой сладкой земли (а если кто не выпьет, прямо из окна, клянусь мамой, прыгну!), за гениального Иосифа Сталина!
И в секундной тишине все услышали, как Петя поставил свой бокал и негромко, но так, чтобы все, в том числе и тамада, услышали, сказал:
Все обомлели. Надо знать обычаи грузинского стола, чтобы ясно представить себе эту картину. Тамада засуетился, побежал к раскрытому окну, взобрался на подоконник, с которого его благополучно сняли.
Как-то, сомневаясь в достоверности этого рассказа, я спросил у Пети, так ли все было.
Он кивнул. И только добавил, что, когда тамаду снимали с подоконника, он вырвался и, спрыгнув в зал, взял бокал и неожиданно произнес:
— Ну и х... с ним! Выпьем за Ивана Грозного!
Я не уверен, что сам Юлик помнит эти стихи, все-таки они написаны более полувека назад:
Мне кажется, что в этом стихотворении Кима — одном из первых! — он уже весь как на ладони, со всем своим парадоксальным поэтическим способом рассуждать и способностью находить коллизию где угодно — чертой, столь необходимой для драматурга.
Чисто детская раскованность Юлия Кима всегда позволяла ему создавать нечто такое, что первоначально может показаться даже нелепым. В самом деле, ну, что это:
А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк!..
Однако вот уже какое зрительское поколение не может забыть эту строку из захаровского мюзикла, роскошно спетую Андреем Мироновым, который не стал бы петь что попало. Теперь уже кажется, что никаким другим звуком, кроме “бяк-бяк”, и не передашь хлопанье бабочкиных крыльев. Но кто, как не Юлик Ким, мог расслышать его?
Меня всегда пленяло отношение Юлия Кима к негодяям из его произведений. Он настолько здоровая и сильная натура, что может позволить себе даже сочувствовать этим несчастным, полагающим, что зло выгоднее и полезнее добра. Как смешно и неожиданно кончается, например, песенка о крысе из города Вальпараисо, чья родня пожрала все вокруг, но, увлекшись дудочкой бродячего музыканта, потонула в море:
Я полагаю, что мелодический дар Кима не так уж сильно уступает его поэтическому. Он, конечно, верно делает, что работает с отличными профессиональными композиторами Гладковым и Дашкевичем. Все равно мелодика его стиха сохраняет все своеобычные ритмические ходы, характерные для того времени, когда он сам сочинял музыку. Очень часто эта мелодика подтверждает, насколько крепко настоен стих Юлия Кима на русской или западной классике. Он — превосходный стилизатор. Многие его песни кажутся народными, а некоторые такими и стали: те же “Кони” или “Журавль по небу летит”…
Поэта и драматурга Юлия Кима принято называть бардом. Для этого есть все основания, и это мало что меняет в оценке его творчества. У нас в стране публика чаще открывает критике художественное явление, чем критика публике. Так было с Булатом Окуджавой, Александром Галичем, Владимиром Высоцким. Само понятие “бард” долгое время было подозрительным для официального литературоведения и критики. Впрочем, об этом можно уже и не вспоминать. Воспитанная публикой критика давно покаялась и с придыханием произносит все те имена, над которыми поизгалялась в свое время.
Я не сторонник всяческих рейтингов в искусстве и не думаю, что список бардов должен походить на таблицу футбольного первенства. Но у каждого из нас все-таки есть свое представление о том, какой вклад в родную словесность внес тот или иной ее труженик. И я считаю, что Юлий Ким — один из пяти великих бардов русского ХХ века.
Одно из сильных художественных впечатлений 60-х годов — исполнение перед просвещенной аудиторией (авторами и сотрудниками журнала “Юность”) Юрием Ковалем и Юлием Кимом песни “Когда мне было лет семнадцать...”. Оба молодые. Оба — с гитарами. Начинают эпически:
Ой, когда мне было лет семнадцать, ходил я в Грешнево гулять.
И тут Юлик, изображая гармошку, тоненько, лирически выводит: та-ри-ра-ра, нечто вроде проигрыша, как бы успокаивая слушателей, что ничего не предвещает той трагической истории, которая приключилась с героем этой песни. Голос Коваля сразу же взмывает, обнажая жуткую коллизию этого произведения:
Не раз меня оттуда гна...
...гнали, — подхватывает Ким…
…и оба вместе заканчивают строфу, вобравшую в себя гигантскую информацию и о возрасте персонажа, и о месте события, и о сути приключившегося конфликта, и, наконец, о роковом легкомысленном отношении к нему героя:
Экспозиция закончена. Начинаются события.
И вот оно, центральное явление, из-за которого все дальнейшее и случилось:
Теперь события развиваются с невероятной быстротой:
Здесь полагалось назвать имя кого-либо из присутствующих слушателей песни. И я с ужасом слышу, как Коваль называет имя уважаемого всеми мэтра, сосредоточенно и с удовольствием слушающего пение. Причем Юрка явно не планировал этого заранее, а просто взгляд так упал, на легендарного поэта, а из песни слова не выкинешь:
Вот один здоровый парень бравый (Борька Слуцкий) берет меня за шиврота.
Ни один мускул на скульптурном лице Бориса Абрамовича не дрогнул. Он весь во власти этой трагической среднерусской баллады, то ли привезенной Ковалем из его странствий, а скорее всего, им самим и сочиненной.
Теперь все будет начинаться с этого печального вздоха.
Во
Русское межрасовое порно
Надела развратные колготы и прогнулась раком в постели перед мужем
Чтобы получить скидку на покупку дома баба трахается с продавцом