Провинциалка прогулялась возле старой усадьбы
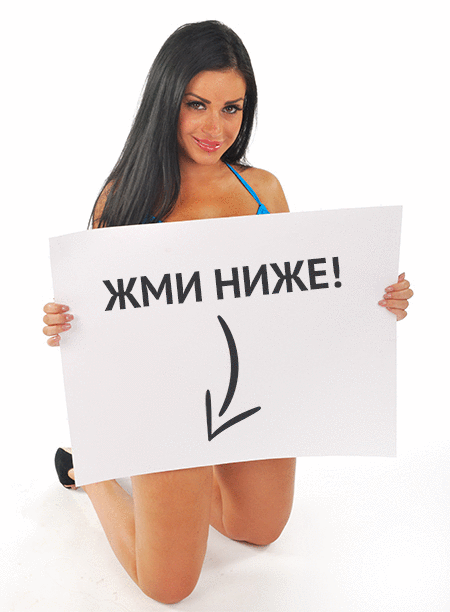
💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Провинциалка прогулялась возле старой усадьбы
«De Damoklès l'éрéе est bien connue;
En songe, à table, il m'a semblé la voir…» [3]
Н ачальные слова в устах запечатлей.»
«Зело, зело, зело, дружок мой, ты искусен,
Я спорить не хочу, но только склад твой гнусен» [13] .
Пред светлым днем и в тверди скрыться.»
Gloire au marquis de Carabas!» [16]
— «Ты пойди, моя коровушка, домой…»
Дивчина казака через юлицю веде», —
Цвет фона
черный
светло-черный
бежевый
бежевый 2
персиковый
зеленый
серо-зеленый
желтый
синий
серый
красный
белый
Цвет шрифта
белый
зеленый
желтый
синий
темно-синий
серый
светло-серый
тёмно-серый
красный
Размер шрифта
14px
16px
18px
20px
22px
24px
Шрифт
Arial, Helvetica, sans-serif
"Arial Black", Gadget, sans-serif
"Bookman Old Style", serif
"Comic Sans MS", cursive
Courier, monospace
"Courier New", Courier, monospace
Garamond, serif
Georgia, serif
Impact, Charcoal, sans-serif
"Lucida Console", Monaco, monospace
"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
"MS Sans Serif", Geneva, sans-serif
"MS Serif", "New York", sans-serif
"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
Symbol, sans-serif
Tahoma, Geneva, sans-serif
"Times New Roman", Times, serif
"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
Verdana, Geneva, sans-serif
Webdings, sans-serif
Wingdings, "Zapf Dingbats", sans-serif
Насыщенность шрифта
жирный
Обычный стиль
курсив
Ширина текста
400px
500px
600px
700px
800px
900px
1000px
1100px
1200px
Показывать меню
Убрать меню
Абзац
0px
4px
12px
16px
20px
24px
28px
32px
36px
40px
Межстрочный интервал
18px
20px
22px
24px
26px
28px
30px
32px
Начало действия настоящего рассказа — минут двадцать до полудня 12 декабря 1823 года; место действия — отделение грамматистов французского языка гимназии высших наук князя Безбородко в городе Нежине, Черниговской губернии.
Но что такое были эти отделения «грамматистов»? Хотя девятилетний курс Нежинской гимназии и состоял из девяти годичных классов: шести гимназических и трех университетских, — но такое деление касалось одних только научных предметов. По языкам воспитанники делились на шесть отделений, совершенно независимых от научных классов, а именно: на принципистов (обучающихся началам языка), грамматистов (обучающихся этимологии), синтаксистов, риторов, пиитов и эстетиков (обучающихся эстетике по классическим образцам); причем для получения аттестата об окончании полного курса достаточно было по языкам пройти четыре отделения.
Таким образом, на уроке грамматистов французского языка, с которого начинается наш рассказ, помещались мирно рядом равноуспешные в этом языке ученики второго, третьего, четвертого и даже пятого класса научного курса.
В числе этих-то пятиклассников был и сидевший на задней скамейке четырнадцатилетний подросток, бледнолицый, с задумчиво-апатичным взором, с нависшими на лоб длинными белокурыми волосами и с острым ястребиным носом. По гимназическим спискам он значился Николаем Гоголем-Яновским; товарищи же и преподаватели называли его попросту Яновским. Ни тем ни другим, разумеется, и в голову не могло прийти, что из этого необщительного, ленивого и телом и духом человечка, напоминавшего о себе другим разве какой-нибудь не совсем безобидной шалостью, выработается великий писатель-юморист.
Пока профессор, Жан Жак Ландражен, а в нежинском переводе Иван Яковлевич Ландражин, молодой еще француз, со свойственной его нации живостью и даже с увлечением толковал сидевшим перед ним на передней скамье лучшим ученикам сухие грамматические правила, облекая их для большей вразумительности в разговорную и повествовательную форму, — на задней скамье между Гоголем и соседом его, Риттером, воспитанником 4-го класса, шел вполголоса совершенно посторонний разговор.
— Ну что же, барончик? — говорил Гоголь. — Или храбрости не хватает? А еще Ritter, остзейский лыцарь!
— Храбрости у меня хватит и не на такую штуку, — отвечал Риттер, голубые глаза навыкате и пухлые розовые щечки которого, однако, гораздо более напоминали вербного херувимчика, чем закаленного в бою рыцаря. — Но за что же обижать Ландражина? Он всегда вежлив с нами, никогда не бранится…
— А тебе бы, небось, четверки, когда и в зуб толкнуть не знаешь? [1]
— Перестанете ли вы трещать, господа? — тихонько укорил болтунов сидевший по другую руку Гоголя приятель его, четырехклассник Прокопович, здоровенный малый с густым румянцем во всю щеку, за что получил от Гоголя прозвище «Красненький».
— Годи, годи, мое серденько, сам еще с нами насмеешься, — отозвался Гоголь и обратился снова к Риттеру: — вот что я тебе скажу, Мишель: коли угодишь в потолок над самой его макушкой, можешь взять, так и быть, за чаем мою булку; а промахнешься, так отдашь мне свою. Идет?
— Идет, — сдался наконец Риттер, и достал из стола заранее разжеванный клякспапир и заостренное гусиное перышко.
Но бумажная жвачка успела уже пересохнуть и не давала хорошенько протолкнуть себя перышком. Риттер сунул ее себе в рот.
— Вы что это, Риттер, закусывать изволите? — окликнул его вдруг профессор.
Вопрос был сделан, как всегда, по-французски. Прибыв в Россию из Франции в 1812 году с Наполеоновской армией, Ландражен не вернулся уже на родину, а пристроился в могилевском губернском правлении помощником переводчика; вскоре же, найдя более выгодным педагогическое поприще, он стал преподавать свой родной язык сперва в частных домах, а потом и в учебных заведениях. С 1822 года он состоял младшим профессором французской словесности в Нежинской гимназии, а также и хранителем гимназической библиотеки, которую старался пополнять, конечно, только французскими книгами. Благодаря этому, многие воспитанники, охотники до чтения, говорили уже свободно по-французски. Гоголь, хоть и любивший читать, но одни русские книги, и Риттер, ничего никогда не читавший, не принадлежали к числу этих знатоков французской речи и потому отвечали профессору всегда по-русски. Ландражен им в этом не препятствовал: на нет и суда нет, — но отметками их, понятно, не баловал.
На оклик профессора, Риттер проворно вынул изо рта свою жвачку и привстал с места.
— Слышали вы, что я сейчас объяснял?
— Вы, может быть, и слышали, да не слушали. Покажите-ка сюда вашу тетрадку.
— Я, Иван Яковлевич, забыл ее в музее.
«Музеями» назывались рабочие залы пансионеров, где они готовили уроки к следующему дню, и помещались вместе с классными комнатами во втором этаже гимназического здания.
— Эта забывчивость у вас просто хроническая, — заметил Ландражен. — Ну, что, если бы все вы, 200 человек, забывали этак свои тетради?
— А вот сейчас высчитаем, что бы из сего вышло, — сказал Гоголь и стал как бы считать по пальцам: — по 4 урока в день, это составило бы на 200 человек 800 тетрадей, а в год 800, помноженные на 365 или, для краткости, на 300, — 240 000! Легко сказать: проверить 240 000 тетрадей! Лучше уж прямо в гроб ложись и помирай.
Ландражен несколько раз порывался остановить школьника, и наконец топнул ногой и громко крикнул:
Точно речь шла не о нем, Гоголь с видом недоумения огляделся по сторонам: кого, дескать, это разумеет профессор.
— Гоголь-Яновский! — повторил тот. — Что вы оглохли или забыли свою фамилию?
— Так это вы меня называли Яновским? — с наивным удивлением спросил школьник и неспешно приподнялся.
— Родовая моя фамилия — Гоголь; а Яновский — только так, приставка: ее поляки выдумали.
Молодой профессор чуть-чуть улыбнулся.
— Но сосед ваш, Риттер, например, откликается и на такие приставки, — сказал он: — сколько мне известно, он простой остзейский фон , а вы величаете его и бароном .
— О! у него, как у милого ребеночка, этих ласкательных имен хоть отбавляй: барончик Доримончик, фон-Фонтик-Купидончик, Мишель-Дюсенька, Хопцики… А у испанцев он величался бы Дон-Мигуэль-Перец-Аликанте-Малага-Херес-де-ла-Фронтера-Экстра-ма-дура-дель-Азинос-комплетос.
При всем своем благодушии, Иван Яковлевич не выносил слишком большой фамильярности со стороны учеников. Он коротко призвал шутника к порядку и затем обратился снова к своим грамматическим разъяснениям. Но не прошло минуты времени, как с задней скамьи, через головы впереди сидящих, взвился в вышину самодельный метательный снаряд и пристал к потолку, как раз над профессорской кафедрой.
Из уважения к любимому профессору молодежь во время шутливого разговора с ним Гоголя сдерживала еще свою веселость: теперь на всех скамьях разом зафыркали, заржали. Если бы Ландражен сам и не догадывался, в чем дело, то устремленные на одну точку потолка взоры воспитанников выдали бы ему, где искать разгадку. Он поднял голову и вспыхнул: над самым теменем его повисло на жвачке перышко, продолжавшее еще колебаться. Он быстро встал и спустился с кафедры.
Черные угольки глаз самолюбивого француза метали такие искры, что у Риттера душа в пятки ушла.
— Нет-с, это не я-с… — запинаясь, пролепетал он.
— Эх ты, горе-богатырь! Еще божится! — вполголоса попрекнул его Гоголь, а затем произнес громко: — Это я, Иван Яковлевич.
— Вы, Яновский? Скажите на милость, что это такое?
Гоголь взглянул в вышину, куда был грозно направлен указательный палец молодого профессора.
— Это — Дамоклов меч, le sabre de Damocles.
Кто-то хихикнул, но огненный взгляд профессора в сторону смешливого словно ожег весь класс. Все кругом виновато замерло, можно было бы расслышать полет мухи.
— Говорят не «le sabre», a «le glaive» или «l'ерее de Damocles» — счел нужным поправить ученика Ландражен и кстати тут же привел цитату из Беранже:
Затем не столько уже с досадой, сколько с грустью прибавил:
— Дамоклов меч висит — точно, но над вашей же головой!
В это время из коридора донесся звонок, возвещавший большую перемену. Ландражен махнул рукой и повернулся к выходу; но на пороге еще раз обернулся и кивнул головой на потолок:
Пока приятель Гоголя, Прокопович, отличавшийся если и не особенным прилежанием, то благонравием, взлез на кафедру, чтобы снять с потолка неуместное украшение, сам Гоголь в толпе товарищей вышел в коридор, куда высыпали уже воспитанники и из других классов. «Дамоклов меч» дал обильную пищу для общих споров и пересудов. Одни обвиняли самого «барончика» как за его шалость, так еще более за выказанную затем трусость; другие взваливали главную вину на подстрекателя, Яновского, потому что барончик-де не выдумал бы пороха, если бы даже был самим Бертольдом Шварцем.
— Яновский и так ведь взял уже вину на себя, — вступился за приятеля Прокопович.
— Это не оправдание, это только смягчающее обстоятельство! — с важностью вмешался тут в разговор семиклассник — «студент» — Бороздин-первый, приземистый, но плотный, круглолицый юноша, остриженный почти наголо, отчего лицо его казалось еще круглее. — Мне жаль, главное, Ландражина: он — душа-человек и вел себя в этом случае, как вы сами, господа, говорите, со всегдашним благородством и тактом…
— Ну, да, да! — перебил его пятиклассник Григоров, самый отъявленный школьник. — Но тебе-то что до нашего семейного дела, расстрига Спиридон? В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
— Во-первых, я не расстрига, а студент и сын полковника, — вскинулся Бороздин; — во-вторых, зовут меня не Спиридоном, а Федором, как вам всем и без того известно. Ярлыки, которые навешивает нам Яновский, часто вовсе неостроумны.
— Ну, на свой-то тебе нечего жаловаться: по Сеньке и шапка, по фляжке — ярлык. Поглядись-ка в зеркало: чем ты не расстрига? Так ведь, господа?
— Так! Так! — со смехом подхватило несколько голосов.
— Мы, трое братьев, стрижемся под гребенку по примеру отца… — начал было объяснять «расстрига».
Гоголь, до сих пор молча прислушивавшийся к пересудам товарищей, принял как будто его сторону:
— А по писанию: чти отца и матерь свою. К тому же, господа, нынче он ведь именинник, а обижать именинника грешно.
— Ну, а это — день ангела Спиридона.
— Поздравляем, Спиридонушка, поздравляем! Дай ручку пожать! Не будет ли угощенья? — посыпались на «именинника» с разных сторон незаслуженные насмешки.
— Meine Herren, zu Tisch! zu Tisch! [4] — раздался по коридору звонкий тенор надзирателя — немца Зельднера, и гимназисты веселой гурьбой повалили к лестнице, ведущей в нижний этаж, где помещалась столовая с кухней, а также канцелярия, квартиры главного гимназического начальства (попечителя и директора), лазарет и церковь.
— Тебе, Яновский, это так не сойдет! — бросил Бороздин на ходу Гоголю.
Со стороны Бороздина сказано было это едва ли серьезно: eitfy, «студенту», строить какие-либо каверзы против гимназиста, а тем более «фискалить» по начальству совсем не пристало. Но Гоголя, видно, подзадорила угроза студента, и, всегда уже молчаливый, он за обедом очень неохотно отвечал на расспросы сидевшего рядом с ним лучшего друга своего, Данилевского. Последний, также пятиклассник, обогнал его однако во французском языке, состоял уже в числе «синтаксистов» и потому не был свидетелем ни сцены своего друга с Ландраженом, ни стычки его с Бороздиным.
— Ты мне объясни все толком, — говорил он. — Судя по тому, что мне передавали другие, ты, братец, кругом неправ.
— Неправ медведь, что корову съел, неправа и корова, что в лес зашла.
И Гоголь уткнулся опять в тарелку. После же обеда, когда остальные пансионеры разбрелись по своим «музеям» «для свободного приготовления к послеобеденным классам без обременения вольности отдохновения» (как значилось в их школьном регламенте), он, поднявшись также по лестнице на второй этаж, но не дойдя до своего музея, остановился у окошка, выходившего в великолепный, но занесенный теперь снегом казенный сад, и так углубился в свои мысли, что даже не слышал, как сзади подошел к нему опять Данилевский.
— О чем задумался, Никоша? — спросил тот. — Верно, замечтался уже о весне, когда можно будет снова гулять по этим тенистым аллеям…
— Мои мечты гораздо прозаичнее и ближе, — проговорил он: — я мечтаю о сюрпризе для дорогого именинника, о золотом яичке на серебряном блюдце.
— Для какого именинника? Для Бороздина?
— Да что он тебе сделал, скажи пожалуйста?
— Что сделала ласточка стрелку, который бьет ее налету? Я стреляю ласточек тоже не из-за них самих, а чтобы проверить меткость своего глаза.
— Ну, и какую пулю ты отлил на эту ласточку? Мне-то, другу, можешь, кажется, поверить.
Гоголь потрепал любопытствующего по плечу и лукаво подмигнул одним глазом:
— Хорошо, брат, делаешь. И я тоже умею.
После чего повернулся к нему спиной и оставил его стоять с разинутым ртом.
Дружба между обоими завязалась еще с раннего детства. Отцы их, прошедшие вместе Киевскую духовную академию, жили и впоследствии не особенно далеко один от другого: от Яновщины, или Васильевки, имения Гоголей-Яновских, до Семеренек, имения Данилевских, было не более 30 верст. О первой встрече своей с Сашей Данилевским в памяти Гоголя сохранились следующие подробности: когда Саша, совершенным еще малюткой, был привезен впервые своим отцом в Васильевку, сам он, Николаша, лежал больной в постели, так что с маленьким гостем мог играть только Ваня (младший брат Гоголя), причем оба усердно угощались клюквой, которой Саша никогда раньше еще не едал. В 1818 году все трое были отданы в Полтавскую гимназию, где пробыли вместе два года. Но тут Ваня захворал и умер; Никоша был взят домой и затем, в августе 1821 года, помещен во вновь открытую в Нежине гимназию высших наук князя Безбородко. Туда же, год спустя, перешел и Данилевский. Здесь дружеские отношения двух однолетков и одноклассников возобновились, и с глазу на глаз они звали друг друга по-прежнему Никошей да Сашей , как называли их дома «свои».
— Естественно, что Данилевского более, чем кого-либо из других гимназистов, должно было интересовать «золотое яичко», которое готовилось Гоголем «имениннику». По живости своего нрава, в противоположность флегматику Гоголю, охотно участвуя не только во всех играх, но и в школьнических проделках товарищей, Данилевский относился более критически к скрытым затеям своего друга, нередко, как сказано, выходившим за пределы невинной шутки, и не раз уже выручал проказника-тихоню от заслуженного наказания. Сегодня он также нашел нужным не упускать его из виду и стал издали наблюдать за ним. Гоголь, очевидно, решился немедля привести свой таинственный план в исполнение. Пройдя в музей, он открыл там свой шкапчик (у каждого пансионера имелся в музее свой собственный шкапчик вышиной в полтора аршина, окрашенный белой краской), достал оттуда два листа рисовальной бумаги и скляночку гуммиарабика, присел к своему столу и стал склеивать листы краями.
«Гм, значит, карикатуру опять намалюет», — сообразил Данилевский.
Но друг его свернул уже свой двойной лист трубкой и вышел обратно в коридор, а оттуда на лестницу, чтобы подняться на третий этаж, где находились спальни. Войдя в спальню своего — «среднего» — возраста (воспитанники делились на три возраста), он воззвал нараспев:
На зов его, как по щучьему веленью, тотчас показался с другого конца спальни дядька Симон.
Симон был специальным дядькой Гоголя. В первое время по открытии Нежинской гимназии, учебное начальство было в большом затруднении приискать достаточное число надежной прислуги и потому не препятствовало воспитанникам иметь при себе дядек из своих крепостных людей. Так и старик Симон, состоявший до тех пор дворовым поваром в Васильевке, попал в Нежин дядькой к своему панычу. К новым обязанностям своим он отнесся со всею беззаветной преданностью, какой в те патриархальные времена отличались крепостные «хороших» господ, к числу каковых бесспорно принадлежали и родители Гоголя. В начале пребывания в Нежине, когда дичок-паныч сильно тосковал еще по родному дому и, ложась спать, всякий раз, бывало, заливался слезами, Симон целые ночи напролет просиживал на табурете у изголовья плачущего и шепотом урезонивал безутешного, но обыкновенно достигал своей цели только при помощи припасенной на всякий случай «бонбошки». Понемногу мальчик, правда, обжился в чужой обстановке; но Симон, это единственное наличное звено, связывавшее с родительским домом, был ему по-прежнему «свой человек», которому без оглядки можно было доверять самые конфиденциальные поручения.
— Что треба панычу? — недовольным тоном спросил Симон. — Знать, все бонбошки опять вышли? Денег у меня ни гроша уже не осталось, — лучше и не проси.
— В одном кармане сочельник, в другом чистый понедельник? Старая, брат, песня! — сказал паныч, отмахиваясь своим бумажным свертком. — Дело теперь не в бонбошках, а вот в чем: достань-ка аршин и смерь мне сию штуку.
Но тут он заметил заглядывавшего к ним в дверь Данилевского.
— Э-э! ты чего там подсматриваешь? Не гляди, душенька! Ну, прошу тебя!
Данилевский отретировался; но когда, немного погодя, Гоголь прошел обратно в музей, друг его отправился на поиски Симона. Нашел он его в нижних сенях около кухни за какой-то столярной работой: наколов топором из доски четыре бруска и обтесав их, старик вымеривал теперь аршином каждый брусок, а потом стал прилаживать их один к другому. На полу около него стоял ящик с гвоздями и разными столярными принадлежностями.
— Ты что это, Симон, рамку для паныча мастаришь? — спросил Данилевский: — не по твоей, небось, поварской части?
Симон исподлобья сумрачно покосился на вопрошающего, обтер рукавом пот, выступивший на лбу от непривычной работы, и забрюзжал в ответ:
— Смастеришь тут! Ступай, батюшка, ступай, еще простуду схватишь: сени-то ведь не топлены.
В это время хлопнула дверь со двора и вошел к ним в сени один из сторожей, Кондрат, или, по местному говору, Киндрат, заведывавший осветительными материалами гимназии.
— А что, братику Киндрате, — обратился к нему Симон, — не найдется ль у тебя на мой пай три-четыре огарочка?
— Отчего не найтись, — отвечал Кондрат. — А на что тебе?
Старик был крепко упрям, и добиваться от него чего-нибудь больше, очевидно, ни к чему бы не повело.
— Добре, — сказал Кондрат, — Зайди ужо на кухню.
И Данилевский со своей стороны счел уже бесполезным допытывать ворчуна-
Голые бабы на озере (66 фото)
Азия - Рождественская вечеринка - 108 фото
Она расстегнула свой красивый бюстгальтер