Племянница приехав погостить у дяди с тётей получила горячий прием
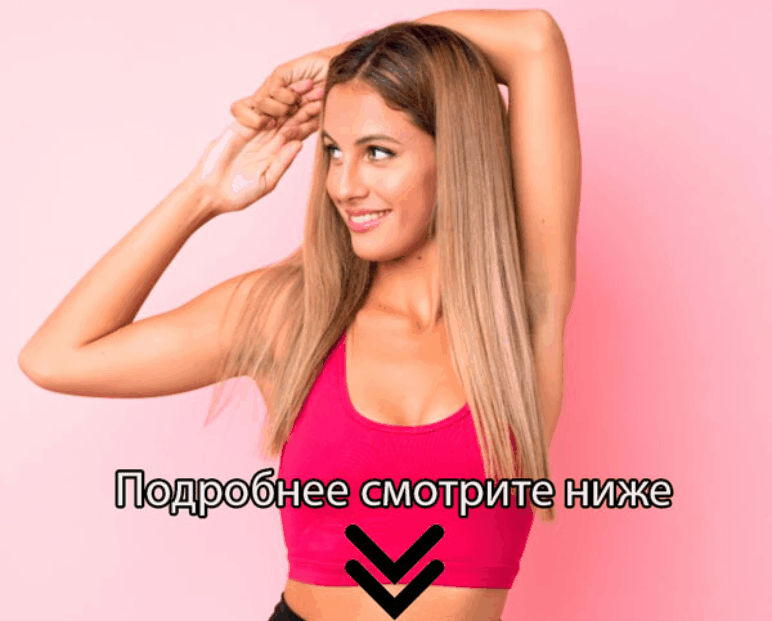
⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Племянница приехав погостить у дяди с тётей получила горячий прием
Повесть длиною в жизнь
Послевоенному поколению посвящается
ПОВЕСТЬ О СЧАСТЛИВОМ ПОКОЛЕНИИ
Гл. 1 Я выжил! Да здравствует жизнь!
Таня, Танечка, заскучал твой Санечка;
Дорожный собран чемодан.
Пойми, что неспроста, моя же ты красота,
Я нынче здесь, а завтра там.
(А. Сутормин)
Как-то, после возвращения из пятой или шестой поездки за год, герой нашей повести, которому тогда было уже далеко за 60, вновь засобирался на своей старенькой Тойоте в дальний путь.
Услышав об этом, его подруга Таня рассмеялась:
- Саша, я вчера услышала песню, она точно про тебя.
- Что за песня?
- «Таня, Танечка, заскучал твой Санечка, …», Шуфутинский поёт. Про человека, которому никак не сидится на месте, только вернувшись из одной поездки, он уже мечтает о другой.
- Танюш, думаю, это связано с тем, что жизнь моя началась с дороги.
…
Семья Зиганшиных, в которой Саня тогда занимал очень теплое и уютное местечко в животике у мамы, ехала поездом Москва-Ташкент в город Чирчик, под Ташкентом, где жили их многочисленные родственники. Там семья надеялась начать нормальную жизнь.
Натружено пыхтел паровоз, стучали колёса. Закончилась заснеженная оренбургская степь, такая же встретила их в Казахстане. Мама Фарзана с тревогой думала: как устроится их жизнь в далёком Чирчике?
Прошло чуть более трёх лет как закончилась страшная война, разрушенная страна постепенно восстанавливалась после неё , но голод нагрянувший в 1946-1947 годах вновь принёс тяжкие испытания многим семьям. Может, им надо было остаться на родине, в уральской деревне, хоть и трудная, но привычная жизнь, родной дом, стремительный Урал, текущий прямо у дома. Там прошло их с мужем детство, там они жили потом трудной предвоенной жизнью. На деревенском кладбище могилы их предков, и старших детей.
Или продолжать жить в посёлке Переволоцком, райцентре, куда они переехали из деревни. В райцентре было лучше с работой, имелась средняя школа для подрастающих дочерей.
На покупку или строительство своего дома денег не было и в перспективе не предвиделось, так как с работой и в райцентре оказалось не очень хорошо. Жили они в служебном помещении при клубе местного элеватора, холодном и не совсем пригодном для жилья. Чирчик же был промышленным городом, где глава семейства, мастеровитый, как и все Зиганшины, мог бы заработать деньги на жильё, да и многочисленные родственники обязательно помогут.
На половине пути, когда ехали по Казахстану, по области с ярким, броским названием Кзыл-Ордынская, что значило красная, красивая Орда, у мамы начались схватки, её высадили на станции Щииля (1), где Саня и родился.
(Вновь в этот посёлок, где несколько дней провел в роддоме, он попал только через 66 лет и здесь с ним приключилась интересная история: впервые в жизни Саша побывал и ночевал в антиподе родильного дома - в публичном доме. Но об этом потом).
А тогда, в 1949 году, он вместе с мамой отправился в своё первое путешествие – в Ташкент. Первое путешествие могло оказаться и последним. Саня рос слабым и болезненным ребёнком. В первую очередь ему не подходил местный климат, его организм не выдерживал сильнейшей здешней жары. Тем более и жары, и холода, непогоды, ему доставалось по - полной. В те годы редко какая женщина, родив ребёнка, долгое время сидела с ним дома. Так и Санина мама: когда ему исполнилось два месяца, она была вынуждена выйти на прежнюю работу – изготовление кирпичей.
Привязав ребенка к спине платком, как делают нередко восточные женщины, она, вместе с другими, месила ногами глину, ходя по кругу, потом таскала носилками глину на ровную площадку, где стояли формы для кирпича, набивала эти формы глиной, шла за следующей порцией и так бесконечно: дни, месяцы.
А Саня висел за спиной мамы в жару и холод: на солнцепеке, в редкий благодатный летний дождь и в холодную сырость недолгой азиатской зимы. Когда молоко наполняло груди матери или совсем измученный ребёнок жалобно плакал, мать передвигала сверток со спины на грудь и кормила Сашу, зачастую не останавливаясь в своём движении с другими женщинами по вязкой глине.
Когда ему исполнился год его также подвешивали к спине старшей сестры Рашиды, маленькой, худенькой восьмилетней девочки. И он висел там, либо лежал на земле около играющих детей, когда сестра снимала его со своей уставшей, натруженной спины.
Поэтому в полтора года он не мог не то, что ходить, а даже сидеть: сзади подкладывали подушки и он полусидел - полулежал, опершись на них. Ослабленный организм Саши легко подхватывал все болезни, однажды он заболел дизентерией. Его с матерью положили в инфекционную больницу, где врачи сказали, что он всё равно не выживет, лечить бесполезно.
Мать, потерявшая в голодные и военные годы уже троих детей, никак не хотела мириться с этим и сбежала из больницы, каким-то образом перебравшись через высокий забор. Милиция пришла за ними, но мать и Саню спрятали родственники. Отца, живущего в доме с инфекционно-больными, уволили с завода. Местные знахари, узбеки, лечили Саню, в том числе ядом и он, счастливчик, выздоровел и остался на этой земле.
Наверное, он всё равно не выжил бы, так как не подходил климат, но родители отправили Саню с бабушкой на Урал, в Оренбуржье, где жила вторая, большая половина родственников.
Бабушка Газза стала его там с помощью родственников откармливать, периодически взвешивая на старинных рычажных весах, назывались они «безмЕн». Саньку сажали в ведро, которое подвешивали на одном крючке весов, а на другом плече весов подвешивались соответствующие гирьки. И после бабушка сообщала о «привесе» в письме его родителям.
Результаты были настолько впечатляющие, что родители оставили солнечный Узбекистан и семья переехала на Урал.
Старшие сёстры потом шутливо попрекали его:
- Из-за тебя ведь всё бросили. Как там было хорошо!
Жалеть, особенно на первых порах, было о чём.
В Узбекистане Зиганшины жили в доме с огромным, прекрасным садом. Город Чирчик расположен в долине одноименной реки, самой многоводной в Ташкентской области. Бурная горная река протекает между отрогами двух хребтов Западного Тянь-Шаня, считающегося жемчужиной этой горной системы (с тюркского: «божественные, небесные горы»). Название реки в переводе с арабского означает «летящая, стремительная», местные арыки всегда были полны воды и сады давали отличные урожаи.
Семья снова вернулась в Переволоцк, где у них не было никакого жилья. Какое-то время жили на квартире в семье учителей местной школы. Потом вновь поселились в служебное помещение клуба при элеваторе: проживавшая семья убирала, топила печи, охраняла клуб.
Через год, поздней осенью, завхоз элеватора начал ремонт клуба, семье было велено быстро освободить комнату, но им некуда было податься. Завхоз Тукаев, был дальним родственником Зиганшиных, и родители Сани уговаривали его подождать немного с ремонтом, пока они подыщут, где жить, но никакие уговоры не помогли, он все равно начал ремонт.
Вскрыли крышу и первый снежок сыпал на вещи, на одежду, на детей. Одна из сестёр, Салима, получила воспаление лёгких и затем год лечилась в санатории-интернате. Семью до весны пустил к себе в маленький домик один из родственников.
Весной Зиганшины получили участок земли и начали строиться. Вернее, готовиться к стройке, так как строиться было совершенно невозможно: почти весь участок занимали две огромные ямы, образованные предыдущими застройщиками этой и соседней улиц, бравших оттуда землю и глину для изготовления самана. В сухом климате, там, где мало лесов, стены малоэтажных построек нередко возводили из самана. Это древнейший строительный материал использовали ещё древние египтяне. В древности целые города строили из самана (2).
Саман делается очень просто. Это сырой кирпич из грунта, глины. В качестве связующего обычно добавляют солому. Кроме этого требуются песок и вода. А ещё - ноги. Грунт, наполнители и вода должны быть тщательно перемешаны. В зависимости от возможностей семьи, в те времена месили гоняя по кругу лошадь, быка, или же собственными ногами.
Для начала готовится большая ровная площадка, на которую насыпают гору из грунта и песка. Гору разравнивают, делая по периметру большой бурт, который на первом этапе будет удерживать внутри круга воду и образующуюся жидкую саманную смесь. Внутрь круга, на грунт и песок, сыплют рубленую солому, льют воду. Эту работу выполняют мужчины.
Месят обычно женщины, подростки, иногда и младшие дети. Они заходят внутрь круга, обычно босиком, и начинают монотонно ходить по кругу. Работа довольно тяжелая, со временем смесь всё более вязкая, а сил всё меньше.
Неприятность доставляет ещё то, что в грунте нередко попадаются осколки стекла, и если их не заметить, то кто-то обязательно поранит ногу. Некоторым не нравится то, что в замес часто добавляют конский навоз, благодаря которому существенно повышается качество кирпича: не очень - то приятно ходить по дерьму! И долго, круг за кругом, топают по месиву. Иногда более слабые идут, взявшись сзади за плечи более сильного.
Потом все выходят, отдохнуть и немного согреть ноги, вода обычно бывает холодная. Мужчины в это время подбрасывают в круг смесь грунта и песка с буртика, всё уменьшая и уменьшая его, дополнительно ещё солому, навоз, снова поливают всё водой. Ходить становится совсем тяжело.
Наконец опытный саманщик говорит, что саман готов. Недалеко от места замеса размещают опалубки (формы) для заполнения саманом. Во влажном состоянии саман мягкий и легко укладывается в опалубку. Отформованные кирпичи после основательной сушки готовы для строительства.
Хороший кирпич прочен, не разбивается при падении с высоты двух метров. И сейчас из него нередко возводят стены жилищ. Например, в Киргизии, под Бишкеком, огромные территории застроены домами из него.
Главное достоинство стен из самана – экологичность. Одна матушка-земля, да солома. В саманных домах прохладно летней жарой, а зимой они хорошо держат тепло. Стены прекрасно стабилизируют влажность. Конечно, дом не простоит веками, как каменный, но при хорошей защищенности стен от влаги снизу, фундаментом, и сверху, крышей, сотня лет гарантирована.
Из-за выемки сельчанами грунта для самана и образовались две огромные ямы на участке, который согласились взять Сашины родители. Улица располагалась почти в центре поселка, поэтому уже вся была застроена, один этот участок давно пустовал. Одну яму засыпали в первое же лето: отец договорился, и мусор с одного из предприятий водители машин с удовольствием стали вывозить не за посёлок, а во двор Зиганшиных. Позже завезли землю, и на этом месте разбили отличный сад.
Родители выкопали землянку и до самой зимы, пока не появились стены и крыша нового дома, семья жила в холодной сырой землянке.
Санина жизнь начиналась в лучших условиях, чем у его отца, родившегося в дореволюционной России: тогда их семья два года жила в пещере, вырытой в обрыве со стороны Урала. А землянка - это, всё таки, полу пещера, да и прожили всего лето, пока не построили дом.
Стены дома, конечно, строили из самана. Площадку для изготовления и сушки саманных блоков обычно оборудуют недалеко от места строительства, чтобы не тратить время, и особенно силы, на длительный перенос блоков. Так что пришлось брать глину из оставшейся во дворе ямы, и ещё больше расширять и углублять её. Месили ногами, помогали многочисленные родственники. Но труд тяжелейший, песок и воду возили издалека, с реки, времени до морозов оставалось мало, поэтому самана успели сделать немного.
Кроме этого, в те времена, даже при саманных стенах, чуть ли не половина дома требовала дерева: пол, потолок, двери, окна, обрешётка крыши. А дерево было очень дефицитным материалом. Поэтому домик получился небольшой, из двух маленьких комнат, низенький. Но это был свой дом!
Почти все крыши на улице были крыты соломой. Она гнила, её периодически, раз в 3-4 года, старались сменить. Дома, бани отапливали печами, и если искра попадала на соломенную крышу, то та вспыхивала как порох. Пожары, оставляющие семьи с ничем, были нередки. Кроме того, саманные стены требовали другой крыши. Но лишь два дома на всей улице были крыты плохоньким металлом, и у Зиганшиных – камышом. Крыша из камышовых матов была намного дороже соломенной, их изготовление требовало мастерства, но зато такая крыша служила десятки лет.
На новой родине с Саней случилась история, схожая с теми, о которых сказывают в сказках, где герои на печи долго лежат, а потом быстро сил набираются. Ну, не совсем как в сказках: не стал Саня сильным, как Илья Муромец.
Однако история примечательная: ещё в полтора года он и сидеть нормально не мог, но уже к 3 годам догнал по развитию своих сверстников, а в 4 года, это было в год смерти Сталина, был шустрым пацанёнком, умеющим читать, писать и считать. Это в те годы, когда многие дети шли в первый класс, зачастую ещё не зная букв.
Грамоте его не учили. У отца образование было довольно хорошее для человека, родившегося в селе ещё в царской России - закончил 3 класса (и коридор, как любил добавлять отец), но он почти постоянно после работы ещё «шабашил» (3), чтобы прокормить многочисленную семью, ему было не до занятий с сыном. А мама только читала немного на латинице.
У Сани было две старших сестры. Вообще-то всего детей у его родителей было много – девять, но те, кто родились раньше, умерли либо в страшный голод, который скосил в СССР миллионы людей, либо в тяжёлые годы войны. Ещё два брата родились позже. И вот, пока старшая сестра Рашида штудировала свои уроки – учился вместе с нею и Саня.
Мама вспоминала:
- В пять лет ты уже читал численник.
Так в просторечии называли небольшой по формату, но толстый настенный календарь с отрывными листами. Его выпускали огромным тиражом, он был в каждом доме. И сейчас многие пожилые люди покупают себе такой. На каждом листе один день календаря, одно число: 1 января, 2 января и т.д. Отсюда - «численник». Календарь вешали на стену и каждый день один лист отрывали. На обеих сторонах листочка печатали всякую интересную и полезную информацию.
Для обычного советского человека это была своего рода домашняя энциклопедия. Здесь было всё: долгота дня, время восхода и захода солнца, какой праздник сегодня, рассказы о подвигах советских людей, биографии героев, рекомендуемые работы в огороде, рецепты блюд и секреты народной медицины.
А поскольку листок маленький, тексты печатались мелким шрифтом, чтобы больше информации довести до советского человека. Поэтому читать «численник» было непросто, только грамотеям это было под силу. Из предметов, что изучала сестра, особенно полюбилась Сане математика.
Появились у Сани и первые друзья. Ближе всех он сдружился с Мишей Ревякиным, который был на два года младше. У обоих были замечательные бабушки, на которых лежали все домашние дела и забота о внуках, пока родители работали. Миша в то время был единственным ребёнком в семье, а у Зиганшиных было тесновато, и поэтому то время, что друзья не проводили на улице, они чаще играли у него дома.
В основном это было зимой, т.к. летом кого же загонишь домой? Зимой для друзей, продрогших от многочасовых игр в сугробах, катания на санках или лыжах, любимым местом была тёплая лежанка русской печи - "перекрыша"(4). Ребята забирались наверх с картами и резались "в дурака", или играли в шашки при свете керосиновой лампы, электричества в посёлке ещё не было. Туда же Мишиной бабушкой подавались пирожки, беляши.
Ну, а летом домой ребят не загнать. Часто можно было слышать:
- Саша! Саша! Иди домой!
Не дождавшись сына, мама Фарзана брала хворостину и шла искать «блудного сына». Мама, мама! Твоя хворостина так и не коснулась спины сына. А иногда надо было. Однажды они с Мишей резвились на печке и свалили керосиновую лампу, вспыхнул пожар. Хотя был строгий наказ бабушки «играть тихо в карты, но не баловаться». На крики прибежала бабушка и потушила огонь.
Другой раз, Саня так воспользовался своей грамотностью, что доставил неприятности Мишиному отцу, дяде Прокопию, который работал фининспектором, то есть взимал налоги и сборы.
Налоги тогда были не такие как сейчас, собирали их по-другому, например, каждый двор в селе должен был сдать определенное количество продуктов (продналог): масло, яйца, и проч. С яйцами было проще: в каждом дворе куры, можно постепенно набрать нужное количество. В крайнем случае - «недоесть». Если же семья не держала корову, зачастую не имея возможности её содержать, то откуда появится масло? Но семья всё равно была обязана сдавать масло. В этом случае люди шли в магазин потребкооперации, покупали масло, а потом сдавали его, выполняя задание по продналогу.
Получалось, что твой сосед сдал масло, потом ты его купил и сдал как свой налог. От такой сдачи продналога масла в стране больше не становилось, но по бумагам его стало больше.
И работа фининспектора была совершенно не такой, как у нынешних налоговых инспекторов. Например, сейчас, если ты обычный человек, то налоговика можешь ни разу и не увидеть. Возможно, иногда только по телефону пообщаешься с ним, незнакомым человеком. В то время фининспектор ходил по домам и ему обязаны были предъявить документы о выполнении обязательств, квитанции о сдаче масла, яиц. Села небольшие, все друг друга знали, и вот фининспектор приходит в дом к родственнику, другу, соседу, требует выполнения обязательств по налогам, выписывает плачущей матери кучи ребятишек штраф за неуплату. Нелёгкая обязанность.
Дома у Мишиного отца лежали бланки документов. Саня и предложил:
- Миш, давай мы с тобой будем инспекторами.
- Какими инспекторами?
- Как твой папа, пойдём собирать налоги.
- Да я не уме-е-ю.
- Вот бумажки, я их заполню, и пойдём по нашей улице.
Так и сделали. Где в бланке была строка «плательщик налога» Саня писал имена: «тётя Даша», «дядя Митя», вписал номера их домов и друзья, одному пять лет, другому только три, отправились собирать налоги.
Удивленные соседи, после некоторой растерянности, начинали смеяться и отдавали «налог»: конфету, пряник, а то и копеечки, на мороженное. Кто-то рассказал Мишиным родителям. Сане с Мишей сделали внушение. Узнали и у дяди Прокопия на работе, получил он выговор за небрежное хранение бланков.
Появился у Сани и взрослый друг. В один из дней, из калитки дома, что стоял напротив, вышел невысокого роста молоденький лейтенант милиции, который, вместе с женой, снял там недавно комнату. Он подошел к малышу, играющему с щенком на улице.
Саня дразнил и науськивал щенка, «чтобы злее был». Так делали тогда все ребята, ведь собака в сельском дворе – сторож.
- Как тебя зовут? Чей ты?
- Саша. Я вот здесь живу.
- Какой хороший щеночек, такой пушистый шарик.
- А он дядя и есть Шарик. У нас ещё такой есть, могу вам подарить.
- Да ты знаешь, я ведь на квартире, мне могут не разрешить.
Лейтенанту, только приехавшему по распределению служить в посёлок, было скучно. Знакомых пока не завёл, идти, кроме как в кино в Доме культуры, было некуда. Фильмы же обновлялись раз в неделю. Телевизоров в области ещё не было. И служба не занимала всё время, преступность в посёлке практически отсутств
Длинноволосая озорница покувыркалась с бугаем и испытала оргазм
Две голенькие телочки нежно удовлетворяют свои сексуальные нужды
Межрассовое порно фото