Пьер Бурдье, который всегда под рукой. Часть вторая
Андрей Герасимов
Окончание. Начало текста смотрите в предыдущем посте от 27 января.
Две статьи в сборнике оспаривают распространенную точку зрения на Бурдье как социолога, увлеченного обследованием синхронических срезов современных обществ. Напротив, они указывают на важность исторического мышления для проекта рефлексивной социологии. Кристоф Шарль видит в Бурдье историка науки, философии и литературы в ряду лучших представителей французской histoire des mentalités. В этом контексте становятся интересными не столько теоретические обобщения ученого, сколько принципы работы с частными кейсами интеллектуальных сообществ. Шарль формулирует три наиболее существенных правила метода настоящего историка идей. Заметим, как удачно эти принципы укладываются в повестку изучения истории или социологии российского академического мира. Во-первых, это пристальное внимание к социальному генезису интеллектуальных полей, включая и то, в котором находится сам исследователь. Например, сегодня совсем не празден вопрос: насколько процесс концентрации большинства видных российских социальных ученых в the Vyshka повлиял на тематику научных исследований общества и их массовую рецепцию? Во-вторых, трушная компаративистика. Неправильный вопрос: как организован найм и увольнение преподавателей в the Vyshka? Правильный вопрос: как устроен найм и увольнение преподавателей в the Vyshka по сравнению со Свободным университетом Берлина и Педагогическим колледжем №1 Санкт-Петербурга? Наконец, последний из принципов – это упор на взаимоотношениях интеллектуалов с полем власти AKA чиновники, бизнес и менеджеры. Без комментариев.
Джордж Стайнмитц пытается соотнести Бурдье уже с другой значимой исследовательской традицией – немецкой исторической социологией, буквально мигрировавшей в США после серии политических катастроф первой половины XX века. Восприняв от своего первого босса Раймона Арона важность идей о зарождении национального государства, эволюции капиталистической экономики и мобилизации революционных движений, Бурдье все принял к сведению, но сделал, как всегда, по-своему. В своих построениях он старался избегать супер-пупер масштабов и резкого разделения обществ на традиционные (феодальные, аграрные) и модерные (капиталистические, индустриальные), характерные, например, для Чарльза Тилли или Иммануила Валлерстайна. Стайнмитц считает, что акцент на динамике социального на уровне между микро и макро, т.е. на зарождении, трансформации и распаде отдельных социальных полей позволил бы исторической социологии решать классические вопросы Маркса и Вебера куда более сфокусировано, не отвлекаясь на абстрактные механистические законы модернизации. Высказывание Джорджа Стайнмитца не является просто очередным набором благих пожеланий: в конце статьи сделан небольшой обзор последних социологических работ, авторы которых уже подхватили тренд на анализ общественных изменений локального характера. Такой заход мне кажется продуктивным, но общее воодушевление автора по поводу слияния истории и социологии в экстазе, по-моему, крайне наивно. Странно призывать ученых, занимающихся отдельными сферами типа медицины или образования, сделать из вопроса об изменениях свою ведущую проблему. В тоже время для исторических макросоциологов взгляд на тектонические сдвиги с высоты дирижабля является не багом, а фичей. Кажется, что отход от пострановых сравнений приведет к утере нерва такого рода исследований. Интеграция исторической социологии со сравнительной политологией видится, как минимум, не менее заманчивой опцией. В общем, оно, конечно, Бурдье герой, но зачем же стулья ломать?
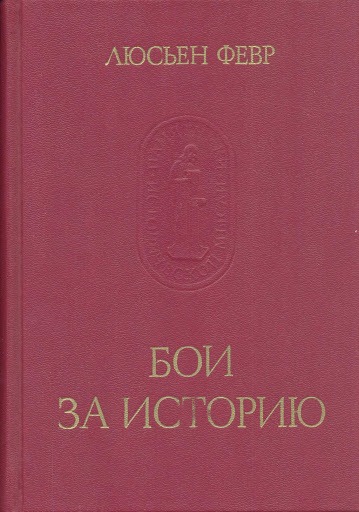
Джон Леви Мартин написал для сборника заметку, посвященную бурдьевистскому анализу социальных практик. Некоторые из его замечаний вроде того, что концепция капитала имела для Бурдье третьестепенное значение, или что влияние на него структурализма было незначительным, могут на первый взгляд вызвать недоумение. Главный же посыл состоит в том, что социальным ученым нужно продолжать работу Бурдье в построении теории практических суждений, которая бы и дальше двигалась от феноменологии в сторону натурализации и математизации социологии габитуса. Мартин вообще известен своей эксцентричностью, иронией и смешением разных тем, что делает его этаким Квентином Тарантино или даже Чарли Кауфманом теоретической социологии. Заинтересованному читателю я бы посоветовал и другие его работы в серии, посвященной теории полей, чтобы понять и оценить его оригинальную контекстуализацию французского классика среди физики векторных величин, гештальтпсихологии и кибернетики.
Последняя разобранная мною часть путеводителя носит характер едва ли не статьи в учебнике и поэтому будет полезна всякому, кто считает, что символический капитал, культурный капитал да и габитус до кучи – это все одно и то же. В ней Эрик Неве пытается собрать воедино противоречивые определения центрального понятия, которые Бурдье давал на протяжении своей научной биографии, и создать последовательную схему из трех базовых форм (экономический, социальный, культурный), а также их кумулятивного эффекта, называемого символическим капиталом. Остальные же многообразные формы, одни из которых упоминал сам классик, а другие подхватили остальные социологи, следует понимать как их композицию в каждом конкретном поле. Например, эротический капитал является портфелем из коммуникативных навыков (социальный капитал), умения привлекательно выглядеть, двигаться и говорить (культурный) и возможности тратить деньги (экономический) в матримониальном поле. Неве особо подчеркивает, что обвинения Бурдье в соучастии по делу экономического империализма являются ошибкой. То же сексуальное поведение, хотя и очевидно нацелено на удовлетворение понятных потребностей, не может быть полностью рационализированным и всегда протекает с участием двух и более взаимозависимых агентов, а не изолированных индивидов. Анализировать поведение людей в политэкономических категориях – не значит продвигать эмоциональный (или какой-то другой) капитализм.

В заключении я не хотел бы делать один общий вывод к такому разнородному сборнику, исходя из обзора отдельных статей. Тем не менее, одно наблюдение, вытекающее как раз из калейдоскопического характера различных перспектив путеводителя, я уже приводил в самом начале, и здесь мне хочется зафиксировать его еще раз. Бурдье сегодня – это уже не он сам, а множество его интерпретаций в различных контекстах. Цветаева писала, что внутри нее живет ее личный Пушкин, и для других поэтов он тоже какой-то свой и особенный. Возможно, каждому социологу сегодня стоит обрести персонального Бурдье.