Отдай мои трусики Моя 28 летняя сестра Кали умеет торговаться
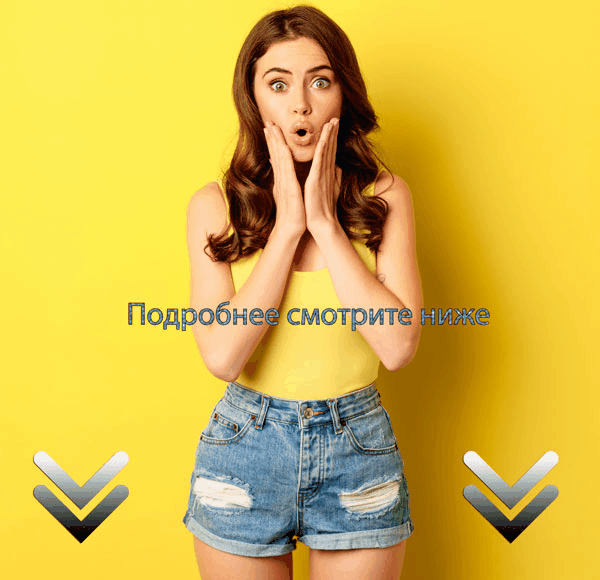
⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Отдай мои трусики Моя 28 летняя сестра Кали умеет торговаться
Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. / редкол. М. И. Кондаков (гл. ред.) [и др.]; Акад. пед. наук СССР. — М. : Педагогика, 1983-1986 Т. 3: ["Педагогическая поэма" и подготовительные материалы к ней] / Сост.: Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов. — 1984. — 508, [3] с., [5] л. ил. — Библиогр. в примеч.: с. 492-505.
Педагогические сочинения в восьми томах
М. И. Кондаков (главный редактор), В. М. Коротов, С. В. Михалков, В. С. Хелемендик
Печатается по решению Президиума Академии педагогических наук СССР
кандидат педагогических наук Ф. А. Фрадкин, доктор Эдгар Гюнтер (ГДР)
Составители и авторы комментариев: Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов
Педагогические сочинения: В 8-ми т. Т. 3 / Сост.: Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов. — М.: Педагогика, 1984. — 512 с., ил.
В том вошли «Педагогическая поэма» и авторские подготовительные материалы к ней, позволяющие более полно представить систему воспитания в трудовой колонии им. М. Горького, становление и развитие детского коллектива, судьбы отдельных воспитанников. Дан краткий научный комментарий. Для специалистов в области педагогики, работников народного образования.
© Издательство «Педагогика», 1984 г.
«Педагогическая поэма» — выдающееся произведение советской и мировой литературы, не утратившее своей актуальности и идейно-художественной ценности и в наши дни. Получив всенародное признание у нас в стране и широкую популярность за рубежом еще при жизни автора, «Поэма» за 50 лет, прошедших после выхода в свет ее первой части (1933), проделала поистине триумфальное шествие по всем континентам и стала одной из наиболее читаемых и любимых книг.
Тема свободного труда, расцвета творческих сил человека в условиях социалистического трудового коллектива, счастья борьбы за революционное переустройство общества — центральная в советской литературе 20—30-х гг., нашедшая отражение в «Хорошо!» В. В. Маяковского, «Поднятой целине» М. А. Шолохова, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского и десятках других замечательных произведений той эпохи. Но только в «Педагогической поэме» эта тема столь органично и глубоко соединилась с темой воспитания нового
человека, с художественным раскрытием самого процесса становления личности и коллектива в созидательном труде на общую пользу, в борьбе за новое общество. Вместе с тем «Поэма» — единственное в своем роде повествование о новой педагогике, новой теории воспитания, рождавшейся, как писал позднее А. С. Макаренко в «Флагах на башнях», «не в мучительных судорогах кабинетного ума, а в живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины. Эта педагогика рождалась на
всей территории Союза, но не везде нашлись терпение и настойчивость, чтобы собрать ее первые плоды» (Соч.: В 7-ми т. Т. III. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957, с. 137).
Рождение нового коллектива, нового человека, новой педагогики в борьбе со старыми, умирающими, но цепляющимися за жизнь и отчаянно сопротивляющимися формами человеческого бытия воплощено педагогом-писателем в яркой поэтической форме. Поэтизация поистине чудотворной силы социалистического детского коллектива, пробуждающего к жизни все лучшее, чем наделен от природы человек, раскрытие подлинно прекрасного в повседневных буднях жизни коллектива колонии — все это давало А. С. Макаренко основания
для определения жанра своего любимого детища как поэмы. Следует заметить, что черты поэтичности несут в себе не только его художественно-педагогические произведения, но и научно-педагогические статьи, лекции, выступления. Воспитатель, ученый, поэт, гражданин — это неразрывно связанные друг с другом грани целостной личности Антона Семеновича Макаренко.
В настоящем издании «Педагогическая поэма» публикуется по тексту, вошедшему в первый том Сочинений А. С. Макаренко в семи томах, с включением в качестве дополнения глав «Сражение на Ракитном озере» и «На педагогических ухабах», взятых из более ранних прижизненных изданий «Поэмы».
Читателям следует иметь в виду, что несколько вышедших при жизни писателя изданий
данного произведения — по частям и полностью, на русском и украинском языках — отличались друг от друга и общим объемом, и количеством глав, и названиями отдельных из них, и конкретным содержанием отдельных мест, и множеством незначительных разночтений. Издание «Педагогической поэмы» со всеми авторскими вариантами и разночтениями составило бы не один том, к тому же для широкого читателя подобные публикации большого интереса не представляют. Поэтому
данный том включает помимо вошедшего в семитомное издание и ставшего каноническим текста «Поэмы» лишь те из содержавшихся в различных изданиях сочинений Макаренко и других макаренковедческих материалах фрагменты, дополнения и разночтения, которые так или иначе дополняют содержание произведения.
Наряду с указанными выше двумя главами в том включен фрагмент «О взрыве», который в первом издании Сочинений А. С. Макаренко в семи томах (М.: Изд-во АПН РСФСР, 1952) публиковался в 7-м томе в разделе «Авторские тексты и материалы «Педагогической поэмы». В пользу включения этого фрагмента говорит и то, что в первом издании первой части «Поэмы» была глава «Взрывы». Крупные фрагменты даны в приложениях, а более мелкие дополнения и разночтения, относящиеся в основном ко второй и третьей частям,—в
комментариях.
В приложения наряду с публиковавшимися в семитомнике «Типами и прототипами» включены материалы, расширяющие сведения о работе А. С. Макаренко над «Поэмой»: «Из списка прототипов», «План романа», а также указатель персонажей. Издание иллюстрируется фотоматериалами, наглядно свидетельствующими о богатейшей фактической, документальной основе произведения. В конце тома даны комментарии. Авторские примечания выделены в тексте звездочками.
Текстологическая сверка материалов тома с прижизненными изданиями «Педагогической поэмы» и архивными источниками проведена с участием С. С. Невской и И. В. Филина.
С преданностью и любовью нашему шефу, другу и учителю Максиму Горькому ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
Часть первая 1. Разговор с завгубнаробразом В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом1 вызвал меня к себе и сказал: — Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно... вот что твоей трудовой школе2 дали это самое... губсовнархоз... — Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься — взвоешь: ка- кая там трудовая школа? Накурено, грязно! Разве это похоже на школу? — Да... Для тебя бы это самое: построить новое здание, новые парты поставить,
ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все: здание не такое, и сто- лы не такие. Нету у вас этого самого вот... огня, знаешь, такого — револю- ционного. Штаны у вас навыпуск! — У меня как раз не навыпуск. — Ну, у тебя не навыпуск... Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек — по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят. Мне говорят: это ваше дело, наробразовское...
Ну? — А что — «ну»? — Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю — руками и нога- ми, зарежут, говорят. Вам бы это кабинетик, книжечки... Очки вон надел... Я рассмеялся: — Смотрите, уже и очки помешали! — Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дают, так вы, это самое, зарежет меня живой человек. Интеллигенты! Завгубнаробразом сердито покалывал меня маленькими черными гла- зами и из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братию.
Но ведь он был неправ, этот завгубнаробразом. — Вот послушайте меня... — Ну, что «послушайте», что «послушайте»? Ну, что ты можешь та- кого сказать? Скажешь: вот если бы это самое... как в Америке! Я недав- но по этому случаю книжонку прочитал,— подсунули. Реформаторы... или как там, стой!.. Ага! Реформаториумы3. Ну, так этого у нас еще нет. — Нет, вы послушайте меня — Ну, слушаю. — Ведь и до революции с этими босяками справлялись. Были коло- нии малолетних преступников... —
Это не то, знаешь... До революции это не то.
— Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать. — По-новому, это ты верно. — А никто не знает — как. — И ты не знаешь? — И я не знаю. — А вот у меня это самое... есть такие в губнаробразе, которые знают... — А за дело браться не хотят. — Не хотят, сволочи, это ты верно. — А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сде- лал, они скажут: не так. — Скажут стервы, это ты верно. — А вы им поверите,
а не мне. — Не поверю им, скажу: было б самим браться! — Ну а если я и в самом деле напутаю? Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу: — Да что ты мне: напутаю, напутаю!.. Ну, и напутаешь. Чего ты от меня хочешь? Что я не понимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое... не какая-нибудь там колония ма- лолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание... Нам нужен такой человек вот... наш человек! Ты его сделай. Все равно, всем
учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и хорошо. — А место есть? Здания все-таки нужны. — Есть, брат. Шикарное место. Как раз там и была колония малолет- них преступников. Недалеко — верст шесть. Хорошо там: лес, поле, коров разведешь... — А люди? — А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может, тебе еще и автомо- биль дать? — Деньги?.. — Деньги есть. Вот получи. Он из ящика стола достал пачку. — Сто пятьдесят миллионов.
Это тебе на всякую организацию. Ре- монт там, мебелишка какая нужна... — И на коров? — С коровами подождешь, там стекол нет. А на год смету составишь. — Неловко так, посмотреть бы не мешало раньше. — Я уже смотрел... что ж, ты лучше меня увидишь? Поезжай — и все. — Ну, добре,— сказал я с облегчением, потому что в тот момент ниче- го страшнее комнат губсовнархоза для меня не было. — Вот это молодец! — сказал завгубнаробразом.— Действуй! Дело святое! 2. Бесславное начало колонии
имени Горького В шести километрах от Полтавы на песчаных холмах — гектаров две- сти соснового леса, а по краю леса — большак на Харьков, скучно поблес- кивающий чистеньким булыжником.
В лесу поляна, гектаров в сорок. В одном из ее углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок, составляющих все вместе правильный четырехугольник. Это и есть новая колония для правонаруши- телей. Песчаная площадка двора спускается в широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе ряд старых берез, еще две-три соломенные крыши.
Вот и все. До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 го- ду она разбежалась, оставив после себя очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в истрепанных журналах-дневни- ках, главными педагогами в колонии были дядьки, вероятно, отставные ун- тер-офицеры, на обязанности которых было следить за каждым шагом вос- питанников как во время работы, так и во время отдыха, а ночью спать рядом с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей-крестьян
можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью. Внешним ее выражением был такой простой снаряд, как палка. Материальные следы старой колонии были еще незначительнее. Бли- жайшие соседи колонии перевезли и перенесли в собственные хранилища, называемые коморами и клунями, все то, что могло быть выражено в ма- териальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким доб- ром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего,
напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где-то вновь насажен, стекла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, две- ри не высажены гневным топором, а по-хозяйски сняты с петель, печи разо- браны по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире дирек- тора остался на месте. — Почему шкаф остался? — спросил я соседа, Луку Семеновича Вер- холу, пришедшего с хутора поглядеть на новых хозяев. — Так что, значится, можно сказать, что шкафик етой нашим людям без надобности.
Разобрать его,— сами ж видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдет — и по высокости, и поперек себя тоже... В сараях' по углам было свалено много всякого лома, но дельных пред- метов не было. По свежим следам мне удалось возвратить кое-какие цен- ности, утащенные в самые последние дни. Это были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, еле на ногах державшихся, конь — мерин, когда-то бывший киргизом,— в возрасте тридцати лет и медный колокол. В
колонии я уже застал завхоза Калину Ивановича. Он встретил меня вопросом: — Вы будете заведующий педагогической частью? Скоро я установил, что Калина Иванович выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не признавал. В его словаре было много украинских слов, и «г» он произносил всегда на юж- ный манер. Но в слове «педагогический» он почему-то так нажимал на литературное великорусское «г», что у него получалось, пожалуй, даже чересчур сильно. — Вы
будете заведующий педакокической частью?
— Почему? Я заведующий колонией... — Нет,— сказал он, вынув изо рта трубку,— вы будете заведующий педакокической частью, а я — заведующий хозяйственной частью. Представьте себе врубелевского «Пана», совершенно уже облысев- шего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте Пану бо- роду, а усы подстригите по-архиерейски. В зубы дайте ему трубку. Это бу- дет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно сложен для такого
простого дела, как заведование хозяйством детской колонии. За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гор- достью его были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб-гвар- дии Кексгольмского ее величества полка, а в восемнадцатом году заведо- вал эвакуацией города Миргорода во время наступления немцев. Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной дея- тельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разно- образных убеждений.
Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большеви- ков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприим- чив и подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педа- гогической энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого разговора: — Как же так, товарищ Сердюк, не может же быть без заведующего ко- лония? Кто-нибудь должен отвечать за все. Калина Иванович снова вынул
трубку и вежливо склонился к моему лицу: — Так вы желаете быть заведующим колонией? И чтобы я вам в неко- тором роде подчинялся? — Нет, это не обязательно. Давайте, я вам буду подчиняться. — Я педакокике не обучался, что не мое, то не мое. Вы еще молодой че- ловек и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией — так, знаете, для этого ж я еще малогра- мотный, да и зачем это мне?.. Калина Иванович неблагосклонно отошел от меня. Надулся.
Целый день он ходил грустный, а вечером пришел в мою комнату уже в полной печали. — Я вам здеся поставив столик и кроватку, какие нашлись... — Спасибо. — Я думав, думав, как нам быть с этой самой колонией. И решив, что вам, конешно, лучше быть заведующим колонией, а я вам буду как бы под- чиняться. — Помиримся, Калина Иванович. — Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые горшки леплять, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек грамотный, будете как бы заведую- щим. Мы
приступили к работе. При помощи «дрючков» тридцатилетняя ко- няка была поставлена на ноги. Калина Иванович взгромоздился на неко- торое подобие брички, любезно предоставленной нам соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в час. Начался организационный период. Для организационного периода была поставлена вполне уместная зада-
ча — концентрация материальных ценностей, необходимых для воспита- ния нового человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ, а я ни- как не мог примириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший киргиз. В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специа- листов кое-как привести в
порядок одну из казарм бывшей колонии: вста- вили стекла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной4 сто пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло «сконцент- рировать». Сравнив все это с моими идеалами в области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было во сто раз больше, то до идеала оставалось бы столько
же, сколько и теперь. Вследствие этого я принужден был объ- явить организационный период законченным. Калина Иванович согласил- ся с моей точкой зрения: — Что ж ты соберешь, когда они, паразиты, зажигалки делають? Ра- зорили, понимаешь ты, народ, а теперь как хочешь, так и организуйся. При- ходится, как Илья Муромець... — Илья Муромец? — Ну да. Был такой — Илья Муромець... может, ты чув... так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и
лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил. — Ну что же, будем, как Илья Муромец, это еще не так плохо. А где же Соловей-разбойник? — Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь... Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния: никто не хотел посвятить себя воспитанию нового че- ловека в нашем лесу — все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только
на конференции работников сельской школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлось два живых че- ловека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживаю- щее женское влияние» счастливо дополнит нашу систему сил. Лидия Петровна была очень молода — девочка. Она недавно окончила гимназию и еще не остыла от материнской заботы. Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение: — Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает. — Да я именно такую и искал. Видите
ли, мне иногда приходит в голо- ву, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка — чистейшее су- щество, я рассчитываю на нее вроде как на прививку. — Не слишком ли хитришь? Ну, хорошо... Зато Екатерина Григорьевна была матерый педагогический волк. Она не на много раньше Лидочки родилась, но Лидочка прислонялась к ее пле- чу, как ребенок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьезном краси- вом лице прямились почти мужские черные брови. Она умела носить с под-
черкнутой опрятностью каким-то чудом сохранившиеся платья, и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею: — С такой женщиной нужно очень осторожно поступать... Итак, все было готово. Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургуч- ными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по восемнадцати лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж,
а двое были помоло- же и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Воло- хов, Бендюк, Гуд и Таранец. Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкус- ный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в спальне, на свобод- ном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы; скатертей мы не имели, но их с
успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники нарождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточ- ку зеленого бархата. Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о про- шлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались, с ехидными улыбками и презрением посматри- вали на расставленные в казарме складные койки — «дачки», покрытые далеко
не новыми ватными одеялами, на некрашеные двери и окна. В се- редине моей ре
Два здоровых бугая вызвали стюардессу и помели во все щели
Муж Трахает Жену В Анал Домашнее Видео
Мужик Ебет У Себя Дома Свою Страстную Куму Снимая На Скрытую Камеру