Отчиму на оценку ножки раздвигаются сами
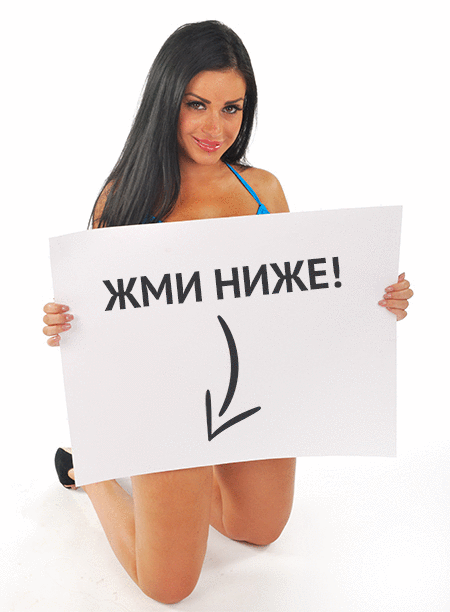
🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Отчиму на оценку ножки раздвигаются сами
Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Firefox разрешён выход в Интернет.
Firefox не может установить соединение с сервером www.pereplet.ru.
Отправка сообщений о подобных ошибках поможет Mozilla обнаружить и заблокировать вредоносные сайты
Сообщить
Попробовать снова
Отправка сообщения
Сообщение отправлено
использует защитную технологию, которая является устаревшей и уязвимой для атаки. Злоумышленник может легко выявить информацию, которая, как вы думали, находится в безопасности.
Proudly powered by WordPress
|
Theme: Simppeli by Foxland .
Все, что последует ниже, написано не про врачей и не про больных. То же самое можно было бы написать о ком угодно. Мне повезло побывать в прошлой жизни врачом, а потому медицина сделалась линзой, в которой сходятся жизнеописания. И мне очень не нравится, когда эти миниатюры называют «медицинскими байками». Я не рассказываю баек, все написанное – чистая правда.
Я глубоко признателен за помощь моим бывшим коллегам, особенно врачу Скорой Помощи Александру Иванову, моему другу еще со студенческой скамьи.
Было бы ошибкой увидеть во всем, что последует, продолжение хроники «Под крестом и полумесяцем», изданной издательствами «Геликон Плюс» и «Ракета» (в расширенной версии). Да и сами истории здесь не совсем похожи на те, что составили хронику. Длиннее они, что ли. Наверное, да. В этом все дело. Или в чем-то другом. Они и не хроника, потому что записывались по мере того, как вспоминались, а не как происходили в исторической последовательности.
Кушать подано, стол общий, язвенникам не читать.
Был такой детский рассказ, не помню, чей. Может быть, Драгунского. Там мальчик набедокурил, но потом извиняется: трогательно прижимается к маме и вдруг понимает, что это очень просто, и очень приятно, и «даже немножко вкусно — просить прощения».
Это «вкусно» мне запало в голову и всплыло, когда я читал дочке сказку, а в сказке был повар в белом колпаке, вот ребенок и спрашивает: зачем белый колпак?
— Ну, — говорю, — чтобы волосы в суп не падали. Тебе приятно, когда там плавает? А белый — чтобы все видели, что чистый. А то напялит себе черный, и поди разбери, день он его носит или месяц.
Много лет назад я учился и работал при кафедре нервных болезней Первого Ленинградского мединститута. Нет, уже Санкт-Петербургского медицинского университета. Сразу чувствуется разница. Дежурил, разумеется, по ночам. И вот меня вызывают в приемный покой на предмет расследования пьянства. Пьянство было раскрыто на пищеблоке; подозреваемая повариха доставлена, куда надо, и ждет моего вердикта.
Я человек либеральный, никого не осуждаю, все понимаю. Если что про кого напишу, так в документальном стиле, без оргвыводов. Но здесь я даже споткнулся. Повариха, которой не дали приготовить обед для всего института, стояла совсем испуганная и несчастная. На ней были белые одежды ангела. Этого ангела, ходившего к сынам человеческим, низвергли на землю; содрали в наказание крыла и хитон, постелили их у входа в адский сортир, где тысячи бесов вытирали о них свои черные копыта.
Потом одежды с крылами надели обратно на ангела, а на прощание выплеснули на фартук ночной горшок Люцифера.
И я не сдержался. Это был последний в моей жизни проблеск гражданского идеализма. Я приблизился, оттянул лямочку фартука и обратился с такой речью:
— Послушайте, я все понимаю. Мне плевать, что вы выпили. Но вы же обед варили — что, что это? В каком вы виде?
Повариха вытаращила глаза, отшатнулась и пробормотала:
И я увидел, как это всем будет вкусно, прощение поварихи.
На поэтическом фуршете ко мне обратился застенчивый молодой человек, который, как выяснилось, занимается Рекруитментом, а потому читает идиотские книги в моем переводе. Вежливо и тонко хихикая в ответ на мои ядовитые реплики, он выразил надежду на какое-нибудь сотрудничество в перспективе. Не имея ничего против него лично, я в сотый раз содрогнулся при словах «работать в команде». Нет ничего страшнее для меня, чем сделаться «командным игроком».
Всегда и везде я искренне ненавидел начальство за то, что оно за мной следило. Вот сейчас мне замечательно: сделал — и молодец. Не сделал — тоже молодец, просто съешь на один пирожок меньше. Зато в прежней жизни мне приходилось совершить столько побегов, что по накалу страстей, если взять их в совокупности, хватило бы и на Бастилию, стоявшую под охраной глупого Ла Раме, и на Шошенк, и на историю с Мотыльком и Дастином Хоффманом.
Я совершенно не умею сидеть и пучить глаза, когда все уже давно сделал. И в поликлинике, и в больнице у меня всегда существовало по два пути отступления, главный и запасной. Основная дилемма заключалась в верхней одежде. Если я вешал ее в кабинете, пользуясь королевской привилегией игнорировать, на зависть обычным смертным, гардероб, то мне приходилось бежать уже одетым, и я рисковал натолкнуться на какую-нибудь проверяющую сволочь. А если я катился вниз как бы по делу, то неизбежно задерживался в гардеробе, где тоже мог натолкнуться на сволочь. К тому же меня выдавала сумка, по которой сразу делалось ясно, какое у меня дело.
Так я сбегал на час, на два, на три раньше времени.
Однажды ко мне вошла начальница, пожевала губами и потребовала объяснений.
— Но я же все сделал, — сказал я жалобно.
— Часы надо высиживать, — не без сочувствия ответила та.
Но я видел, во что превращаются фигуры тех, кто высиживает многочасовые лечебно-профилактические яйца. И дело не в факте сидения, потому что сейчас я тоже все время сижу, и неизбежно располнел, но именно докторский стан после долгого высиживания приобретает какие-то своеобычные формы. Откладываются какие-то совершенно особенные, тугоплавкие жиры, впитавшие вялое атмосферное электричество…
— Так чем же мне заниматься? — спросил я.
И я работал с документами: сидел и уныло перебирал больничные листы, читая об уголовной ответственности за их неправильную выдачу — по закону, принятому в щедром на выдумки 1937 году.
А вот в больнице я постепенно обнаглел и на излете врачебной деятельности уходил уже через час после появления на работе. Я говорил, что пошел лечить зубы.
Вообще-то ко мне приставали и с другими придирками. Последний начмед, например, упрекал меня в убогости стиля при оформлении историй болезни. Я еще скажу об этом отдельно. Я не то чтобы исправился, будем скромнее, но я старался, и надеюсь, что ему еще представиться случай ознакомиться с результатами.
Я уже давно расстался с больницей, когда разразилась атипичная пневмония. Озаботившись ее победным шествием, я позвонил бывшим коллегам. Какие, дескать, принимаются меры.
Я не поверил, и те сознались: меры все-таки приняты.
По отделениям распространили приказ-инструкцию: «Как Мыть Руки».
Я где-то или у кого-то прочел, что на Тайване уже выставили в общественные туалеты бутыли со спиртом, для обработки рук. Боятся, несчастные, этой ужасной новой болезни.
А ничего другого и не нужно. У нас, если спирт в общественном туалете заканчивается, его даже с собой приносят.
Привезли однажды дифтерию, на ночь глядя. Ну, пошел звон. Вернее, старческий скрип: с приемным покоем немедленно связалась некая Мария Николаевна, которая работала местным эпидемиологом лет уже пятьдесят. Была она маленькая, беленькая, любила проводить занятия по холере, всюду ходила. Это ее, как я рассказывал в хронике, обманули в реанимации, от которой Мария Николаевна потребовала выстроить особую утятницу: мойку для уток. И утятницу выстроили, и всякий раз, когда Марья Николаевна появлялась, ей гордо показывали, а Марья Николаевна только руками плескала, растроганная. Так утятница без дела и простояла.
И вот Марья Николаевна позвонила и прочитала подробную инструкцию: что делать и как обрабатываться после приема дифтерии.
Когда я работал в петергофской поликлинике, я был там добрым следователем.
Потому что поликлиника, как ее ни крути, тоже общечеловеческое учреждение — а значит, в ней должен быть следователь добрый и следователь злой.
А мой коллега слыл жестоким извергом, он был бездушная машина. В сложном медицинском процессе его больше всего привлекала административная сторона. Он постоянно делал в карточках разные пометки с восклицательными знаками, не имевшие отношения к диагнозу, но очень важные для профилактики жалоб и наказаний — «Герой!», «Инвалид!», «Участник!», «Идет на ВТЭК!», «Хочет на ВТЭК!» и так далее.
А сам уже много лет как сошел с ума и бредил жилплощадью.
После «здрасте» со мной он вываливал из портфеля судебно-хозяйственные бумаги и, задыхаясь он торжества, начинал объяснять, кого и где он вывел на чистую воду.
«Липа!» — ликовал он, тыча пальцем в какую-то испуганную подпись.
Мы с ним были в большом дефиците. Сами к себе рисовали талончики, половину спускали в регистратуру, чтобы публика к нам с утра занимала очередь. Пока я работал, полегче было.
Спустился в регистратуру взгрустнуть, попрощаться. А там уже мой коллега расхаживает. И облизывается, пальцем грозит, рисуя перспективы своего одиночного труда:
За стойкой притихли, глядели на него с веселым страхом и готовы были визжать уже прямо сейчас, с зачетом будущих лишений.
Крепостное право у нас сохраняется. Никуда оно не делось. Развиваем начатую тему.
Вот меня, например, в поликлинике очень даже просто продавали. Низводя до талончика, ко мне на прием.
Придет к терапевтихе, а то и к самой государыне-заведующей, клуша. Принесет в авоське бутылку с конфетами, пшена, борзых щенков. Заведующая коньяк выжрет, пшена на пару с клушей поклюет, щенков помучает. И, раздобрившись, делает ответную благодарность: выдает талончик, к невропатологу.
Но клуша — давно, естественно, этого талончика добивавшаяся — расцветает. Бежит ко мне, а я сижу и вообще не при делах. Кто такая? Ах, вам меня прописали…
Отрабатываю коньяк, булькающий в заведующем животе.
Не очень-то приятно, когда тебя продают.
Захотят — в солдаты сошлют, как бывало; захотят — поженят на медсестре. Или на той же клуше. Беседуешь с ней — и будто сорок лет с ней прожил. Будто при Анне Иоановне проживаешь, для ее идиотской забавы. Бироновщина.
Как у Тредьяковского выходит. Я тут Зощенко читал, так он цитирует его оду на венчание шута и карлицы:
«Здравствуйте, женившись дурак и дура.
Теперь-то прямое время вам повеселиться.
Теперь-то всячески, поезжане, должно беситься»
Я еще только начал работать в больнице.
Еще только-только познакомился с заведующей отделением, о которой так много и подробно написал в хронике. А она уже ко мне прониклась всем сердцем.
Вот завершился мой не первый, а где-то девятый, но точно не сороковой, рабочий день; пришел я на пятачок, где публика караулила вероломный служебный автобус, чтобы скорее уехать домой.
Стою, люди рядом. И заведующая идет, из магазина.
— Так, — доверительно бросает мне, на ходу. — Колбаски купила, хорошо.
— Ого, перед тобой уже отчитываются, — подмигнул руководитель лечебной физкультуры, ядовитый и злой человек.
Оказалось, что это был не отчет, а просто абстрактное умозрение. Заведующая любила в разгар рабочего дня сказать, например:
— Нас было девять (четверо? двенадцать?) детей. И каждый что-то умел. Вот я никогда не умела готовить. Зато я умею чистенько и быстро прибрать квартирку.
Как-то раз докторша с отделения съездила к ней в квартирку одолжить пылесос. Вернулась: глаза навыкате, голос сел, только шепчет и головой качает: «Бля… бля…»
Однажды до и после полуночи у меня состоялся телефонный разговор с одной знакомой. Она спрашивала совета: ее подруга почувствовала, что в ее кишечнике зародилась некая Жизнь. Дня два уже там существует. Зарождение Жизни сопровождается потерей аппетита и легким головокружением. Поскольку Господь по избытку великодушия даровал человеку право именовать всякую тварь, больная нарекла Жизнь Солитером. Эта мысль пришла ей в голову сразу, едва она вспомнила рассказы о Солитере, которые слышала давно.
Я привел себя в боевую готовность, но тут выяснилось, что подруга уже устала думать о Солитере и задремала.
Зато задумался я: почему же Солитер?
И как вообще возможно иметь суждение?
Я говорю об этом, будучи закоренелым агностиком. Таинственная Жизнь в кишечнике напомнила мне примечательный случай, рассказанный одной очень умной женщиной, психотерапевтом. К сожалению, ее уже нет в живых. К этой женщине ходил матерый эксгибиционист. Ему ничто не помогало; пробовали гипноз, рациональную психотерапию, гештальт, психоанализ — впустую.
Однажды она погрузила его в легкий эриксоновский гипноз и заставила воображать всякую всячину. Бедняга, как обычно, сразу увидел льва, который в подобных видениях равнозначен «Я». В сторонке от льва прогуливался папа. Папа эксгибициониста, не льва.
Лев этот тоже осточертел докторше. Она уже понятия не имела, что с ним дальше делать.
«Хорошо, — сказала она наобум. — Лев съел папу».
На следующий сеанс клиент явился с букетом роз и прочими дарами. Он полностью выздоровел и теперь сиял.
А вы говорите: Солитер. С дурной уверенностью.
На уроке сексуальной квалификации доктор Щеглов рассказал нам, что экспертиза эротической видеопродукции — дело весьма тонкое и непростое. Собирается важная комиссия, состоящая из солидных людей. Они отсматривают фильм и приглядываются: подтягивается ли во время совокупления мошонка. Если она подтягивается, то копуляция натуральная, а кино порнографическое, и за него надо посадить. А если висит, то это полное фуфло, обман потребителя, равнодушная имитация, она же — высокое, как известно, искусство. Сажать не надо, можно дать приз Венецианского кинофестиваля.
Вообще, эти уроки бывали очень познавательными. Один доцент, например, Петров ему фамилия, вел у нас цикл «Социальные аспекты сексологии». Он ничего другого не делал, кроме как пересказывал нам сцены из разных фильмов, особенно напирая на «Калигулу», и в глазах его, которые над аккуратной бородкой были, светилось неподдельное восхищение.
А профессор Либих — ныне покойный, как я понимаю, но если нет, то виртуально прошу у него прощения — задавал неожиданные вопросы: чем, например, должно пахнуть в уборной? И сам же отвечал, что в уборной всегда должно немножко пахнуть уборной. Он был милый человек, но очень сильно смахивал на Берию. Однажды он решил показать нам гипноз. Для этого, по его словам, ему нужно было выбрать идеальную кандидатКУ, и он пошел по проходу, выискивая сродственную, созвучную его душевному строю, фигуру. И вдруг, подавшись вперед, молча задвигал нижней челюстью. Я по сей день пытаюсь подобрать какой-нибудь подходящий аналог из животного мира, но безуспешно. Подвигал, походил, схватил одну самку. И загипнотизировал.
Не знаю, с какого-такого женского счастья, но мне вдруг вспомнилось одно восьмое марта — история про мужские руки. Не ко времени, да и случай довольно бесхитростный, ну и ладно.
В последнюю больничную весну мне взбрела в голову дурная идея, которая состояла в совокупном гастрономическом поздравлении женского коллектива. На меня уже посматривали косо, так как годы общения с друзьями — урологом и физкультурником — не прошли даром, и я все глубже завинчивался в хмельной водоворот. Поэтому я прислушался к царившей в голове пустоте и пообещал доставить к столу мясное блюдо собственного приготовления, на всех.
— Мужскими руками, мужскими руками, — восторженно перешептывался средний медицинский персонал.
Мне выделили деньги из банно-прачечного ресурса. Я, конечно, не упустил попользоваться и накануне праздника отпросился с самого утра: готовить. Меня подозрительно благословили и отпустили. Я купил сырье, водочки, поехал домой. Возле Старой Деревни, на выходе из маршрутки, был ненадолго остановлен милицией.
А дома, неоднократно ужаленный змием, я обнаружил, что сырья набралось слишком много, а я уже в полудреме. Поэтому я мучительно покрошил все на сковороду, не очень пожарил, высыпал в трехлитровую банку и залил всякой всячиной: уксусом, кетчупом, горчицей; настриг туда травки разной, добавил черных горошков, какие нашел. Банка получилась вроде той, в которую Митьки закатывали зельц с маргарином, чтобы кормиться в течение месяца.
Утром все это было зеленоватого, глинистого цвета. Стерпится — слюбится! Принес я банку, персонал все это вывалил на тарелки, ковыряется с любопытством, не без гадливости. Но восхищение моим подвигом взяло верх. Опять зашептали, толкая друг дружку слоеными локтями: мужские руки! главное, что мужские руки!
А мужские руки с бодуна тряслись так, что рюмку расплескали.
Потом еще били по ним, чтоб не лезли, куда не просят.
Цепочка ассоциаций, восстановить которую мне уже не удастся, да и черт с ней, привела к одному моему пациенту. Это была история маленьких радостей и больших разочарований под равнодушным солнцем.
Тот пациент, назовем его Марков, сломал себе шею. Он был начальником в какой-то конторе, где основной костяк составляли богатые одинокие бухгалтерши средних лет, много наворовавшие, но чистые душой и сердцем, с несложившейся личной жизнью. Они его боготворили. Ему сделали операцию, и преданный коллектив, объединившись с его женой, того же сорта особой, напитался энтузиазмом. Все, что ниже пояса, у Маркова оказалось парализованным, и всем хотелось срочно поставить его на ноги. Ни о каких сроках никто и слышать не желал: поскорее, поскорее на реабилитацию.
Как было принято в таких случаях, меня откомандировали в больницу, где он маялся: посмотреть, можно ли брать — нет ли, скажем, сифилиса, не належал ли пролежней, ни лихорадит ли, а то ведь с ним ничего нельзя будет делать.
Бухгалтерша из приближенных к телу лично свезла меня туда в собственном БМВ, под веселую музыку, и сама веселилась, рассказывала, как пьет с девками коньячок, а сын у нее — наркоман, а мужика нет, а самой ей сорок лет.
Забраковать кандидата я никак не мог, дал отмашку.
Два месяца наше отделение купалось в любви и заботе. Денежного Маркова поместили в одноместную палату; там ежедневно менялись цветы; сослуживицы вместе с женой Маркова посменно дежурили, угадывая малейшее его желание, веруя в близкий успех. И сам он был мужик вполне приличный, не сволочь какая, всем улыбался, был настроен на победу — и вот! все рукоплещут! его уже поставили стоять в брусьях, заковавши в специальные тутора, сапоги такие, подпорки. А потом и повели с ходунками, да костылями, поддерживая и подбадривая. Прогресс, положительная динамика, ослепительное будущее. Никто из них не хотел понять, что такие успехи — удел большинства, и на них, как правило, дело и заканчивается. Будет ходить в сопровождении помогателей, окрепнет, а так — коляска, на всю оставшуюся жизнь.
Осыпали отделение разными благами. Ну, наши казначеи-хозяйственники своего не упустили: там покрасили, сям полочку прибили. На такие-то деньги. А когда Марков выписывался, началось вообще что-то невообразимое. При строгом запрете на всяческое бухло народ у нас, конечно, жрал втихую и вгромкую, но тут все запреты рухнули. Зазывают меня, помнится, в палату, а там — сам Марков в постели, море тюльпанов и роз, счастливые бухгалтерши, стол на много персон — и как все поместились? Наш славный коллектив — в полном составе, с заведующей. Не таясь, наливают мне фужер коньяку в разгар рабочего дня, подносят; заведующая благодушно кивает: выпить!
Через полгода Марков вернулся, потом — еще через полгода, потом через год. У нас же самая тоска была в том, что из года в год лечили одних и тех же клиентов, безнадежных колясочников, давно породнившихся с отделением и видевших в нем нечто вроде клуба. Дома-то, в коляске, не покатаешься. Вообще носа не высунешь.
Состояние Маркова, разумеется, не менялось. Он, как и прежде, стоял в брусьях и ходил в туторах, но эти достижения уже не вызывали в нем прежней радости.
Состоятельный и заботливый бухгалтерский гарем испарился.
Потом, если не ошибаюсь, куда-то запропас
Жена друга примерная хозяйка, а ебется она как шлюха
Русская тетка согласилась на тройничок с двумя богатыми любовниками
Зрелая блондинка в 69 позе сосёт член и трахается с молодым ухажёром