От Яблочкова до Кащенко
Артём Белевитин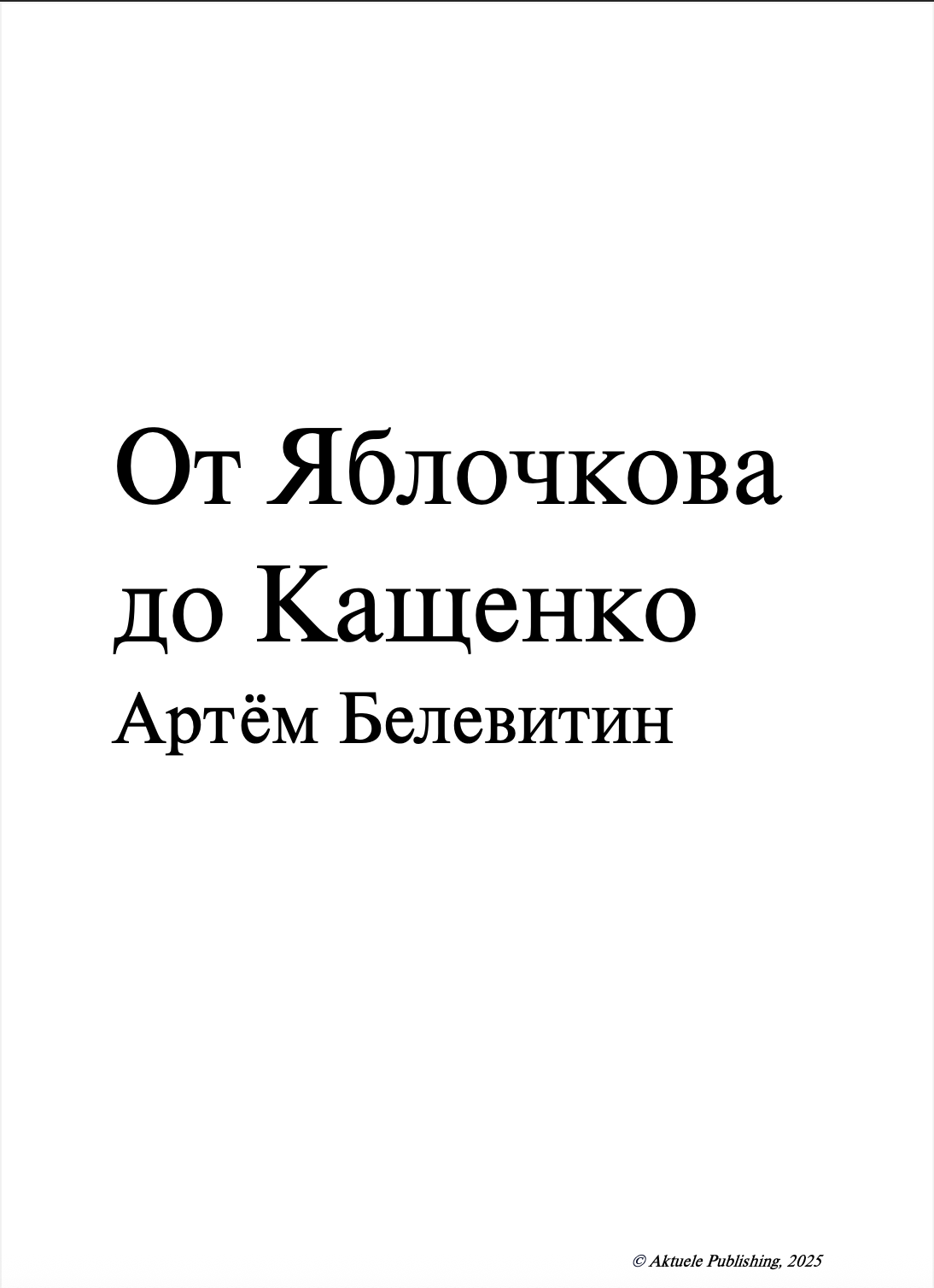
Очерк о поступлении и каштанах
При поступлении в психиатрическую больницу у пациента изымают все личные вещи. Даже то, что пациент специально берёт с собой в палату. Вещи изымаются, чтобы провести опись. Опись всего: от предметов одежды до содержимого карманов. В кармане моей джинсовки, помимо зажигалки и пачки сигарет, был небольшой каштан. Я подобрал его пару недель назад на улице и всё время носил с собой, привык держать его в кармане. Каштан этот был со мной и в военкомате, был, можно сказать, моим единственным развлечением там. Я просто теребил его в руках, массировал им голову, даже пару раз пытался им жонглировать, но безуспешно.
После ожидания в приёмной поступающего приглашают в комнату для самой первой беседы с психиатром. Вопросы зависят от того, какой диагноз написан в направлении, в моём случае это было шизотипическое расстройство. Помимо вполне стандартных вопросов о жалобах и всяких прочих суицидальных мыслях меня спросили ещё о том, не кажется ли мне, что за мной следят. Я честно ответил, что нет, не кажется. Никому в моей палате этот вопрос больше не задавали. Именно на этом этапе у меня попросили вынуть всё из карманов.
— У меня в кармане лежит каштан , его вы тоже изымите? — задал я вопрос.
— Какой каштан?
— Простой каштанчик, я везде ношу его с собой. Я смогу его взять?
Психиаторша замешкалась на пару секунд и сказала:
— Берите, пока у вас никто ничего не забирает.
К несчастью, я поверил. Они быстро провели опись содержимого моих карманов и забрали всё, кроме каштана, который я закинул обратно в карман своей джинсовки. Меня провели в соседнюю комнату. В ней был стул, стол, койка, пара шкафчиков, медицинский шкаф, весы и ростомер.
Женщина, работавшая в этом кабинете, общалась со мной как с ребёнком. Видимо, она говорит так со всеми поступающими, автоматически считая их умственно отсталыми.
В центре комнаты стояла ванна, огромное окно заливало уличным светом всё кафельное помещение. Над ванной мне подстригли ногти на ногах. Подстригли огромными металлическими советскими ножницами, такими, с зелёными кольцами. Пока одна женщина стригла мне ногти, вторая женщина, очень незаметно появившаяся в кабинете, фотографировала на старенькую мыльницу мою одежду. Перед стрижкой ногтей я снял одежду по их просьбе, наивно надеясь вновь её надеть. Сидел я в одних трусах. Каштан оставил в кармане, там он всё время и пролежал — в каком-то из сотен шкафов этой огромной больницы.
Одеться обратно мне уже не дали — вместо этого мне вручили клетчатую пижаму, в которой ходят все пациенты мужского пола, и тапки, взятые из дома. Эти тапки стали единственной вещью из моей сумки, с которой меня не разлучили. На пижаме уцелевшими были лишь три пуговицы, остальные были оторваны предыдущими носителями. Из уцелевших застёгивались только две, третья была разгрызана, позже склеена и вновь приделана к пижаме тем же самым клеем, нанесённым на всю плоскость пуговицы так, что застегнуть её было невозможно. Это была крайне бессмысленная картина.
Меня спровадили в коридор, где сказали сидеть и ждать. Ждать пришлось недолго. Уже минут через десять двое мужчин отвели меня в машину скорой помощи, на которой меня довезли до шестого отделения минуты за полторы. Меня сопроводили до второго этажа, где за мной уже на неопределённый на тот момент срок закрылась дверь.
Мне вручили пакет, в котором лежало моё полотенце, зубная щётка и паста, трусы и носки. Книг в пакете не было — их тоже забрали на опись. Мне показалось это странным, ведь вернули их мне уже через пару часов. Книги, передаваемые на свиданиях, описи не подвергались.
Я прибыл под конец обеда. Меня сразу пригласили к столу и подали мой самый первый капустный суп без соли. Похлёбал его. Сердобольная тётя- уборщица, увидев, насколько я худой, подала мне и второе — только не свежую порцию, а чьи-то объедки без паровой рыбной котлеты. На пластмассовой тарелке была лишь тёртая свёкла и проклятая варёная капуста. Есть это я не стал.
Взял газету «Московская медицина» так как читать было нечего, и прошёл в свою палату номер три. Познакомился с соседями по палате и почти сразу уснул на несколько часов.
Каштан не давал мне покоя. При первой же возможности я написал матери о сложившемся с каштаном положении. Оба мы понимали, что именно тот мой каштан до выписки я вряд ли увижу, поэтому сошлись на том, что мне привезут новый. Совсем без каштанов мне быть не хотелось.
Поступил я в четверг, свидание состоялось только в субботу. В комнате для свиданий мама попыталась передать мне столь долгожданный плод каштанового дерева, однако резко была остановлена надзирающей санитаркой:
— Это запрещено ! А если он его проглотить вздумает?
Достаточно быстро мы пришли к консенсусу, что каштан есть я не буду. Итак, я завладел орехом, но ненадолго.
Каждый день в палатах проводится уборка. Уборка совмещена с досмотром. Смотрят, чтоб у пациентов не было ничего, что иметь в палате не положено, в основном это еда, всякие шоколадки и яблоки с грушами. После одной из таких уборок мой каштан пропал. Я опрометчиво хранил его прямо на прикроватной тумбе, не скрывая вообще никак, мне это даже в голову не приходило. Поначалу я подумал, что он куда-то укатился, но найти не смог. Тогда и понял, что произошло. Я пошёл на пост к дежурной санитарше:
— У меня в палате лежал каштан и пропал.
— Конечно пропал. Его во время уборки выкинули, у нас такое запрещено
хранить, — ответила она.
— Но... — я сделал очень несчастный вид и жалобно-отстранённый голос.
— ...этот каштан важен для меня.
Я ввёл в недоумение очередную санитарку, это у меня получается хорошо. Жалобный вид возымел нужный эффект на эту женщину — в чём-то Лёша Пушкин оказался прав.
— У меня в сумке есть каштаны, я могу дать их тебе, — вдруг пошла мне навстречу она.
— Да, пожалуйста.
Мы пошли к комнате для персонала, она зашла, оставив дверь открытой, но я заходить внутрь не стал. Это казалось мне чудовищным нарушением субординации — чудовищным даже для такого анархиста, как я. Я стоял у порога и смотрел, как она роется в своей сумке. Она очень долго в ней рылась, минут десять, выложила и перерыла всё содержимое своего дамского чемоданчика, — в конце концов это было не зря. Выйдя, она вручила мне целых три каштана, хотя я был бы полностью удовлетворён и одним. Я благодарен ей за такое небезразличие.
Эти три каштана я уберёг, позже к ним добавилось ещё два, которые я подобрал на прогулке. Каштаны мои особенно полюбились Илье, ему даже удавалось ими ловко жонглировать. Иногда мы кидались ими друг в друга в разные концы палаты — ловить их почти не получалось, они громко стукались о пол палаты. У одного каштана разбилась скорлупа, а ещё один я отдал Ване Е. перед выпиской. На память.
Очерк о пациентах
Вообще все находящиеся тут по направлению от военкомата должны быть в отдельном отделении (на полях — тавтология неизбежна). Это отделение номер семь, но поскольку оно, судя по всему, заполнено до отказа, меня и ребят определили в обычное, общепсихиатрическое отделение. Хорошо, что хотя бы в отдельную палату.
Когда я только поступил, про отделение номер семь ходило много слухов — о том, как там всем круто и вольготно, как там все курят, когда захотят, и круглосуточно сидят в телефонах в перерывах между походами в «Макдональдс» и поездками в Диснейленд.
Позже выяснилось, что всё это, конечно же, не так.
Моя любимая санитарша, чьего имени я, к сожалению, не удосужился узнать, сказала нам, что если тут телефоны выдают на полтора часа в день, то там не выдают вообще, и курить у них, конечно же, нельзя, как и ни в одном другом учреждении здравоохранения России согласно федеральному закону. В дурке никому верить нельзя — это я понял, но этой санитарше я всё же верю больше. Истина тут, как и везде, должна быть где-то посередине.
Пребывание в шестом отделении дало мне возможность взглянуть на российскую психиатрию и её пациентов изнутри, некоторых из них я хочу запечатлеть тут.
Жирдяй из шестой палаты
Номер палаты пациента напрямую зависит от тяжести его диагноза и положения — в шестой, соответственно, постоянные клиенты. У Жирдяя самые невероятные ногти на ногах, которые я когда-либо видел. Буквально бараньи рога, растущие в разные стороны. С ними не справились даже советские ножницы. Вместо речи у него просто какой-то рык, я не мог разобрать ни слова, когда слышал его. Он всё время ссал и срал мимо унитаза, будто специально. В первые дни тут он постоянно орал по ночам и лез в драки. Его сюда сбагрила сестра. На вязках я его видел трижды.
Ангел с волосатой грудью
Совсем молодой человек, может, даже мой ровесник. Всё время молчит и ходит туда-сюда, если не ходит, то сидит, застывший как статуя, тихий и смиренный. Но ощущение того, что он может резко выйти из себя и выцарапать кому-нибудь глаз столовой ложкой, меня не покидало. Его образ завершала волосатая грудь, торчавшая из-под расстёгнутой верхней пуговицы пижамы. Волосяной покров был настолько плотным, что кожи не было видно вообще. Это очень контрастировало с его ангельским лицом.
Джи-мэн
Дед. Очень неряшливый и растерянный. Выглядит как больной голубь на улице. Ходит по коридору туда-сюда, ходит очень медленно и постоянно заглядывает в нашу палату. В тёмное время суток я то и дело замечал, как он пялится в отражении окна.
Кедровой из ГРУ
Лысый мужчина с рыжей бородой, очень похож на Дёмушкина. Всё время читает книги Владимира Мегре про звенящие кедры России и доказывает всем, что индустриальная революция была ошибкой. Говорит, лежит тут, чтобы снять диагноз и попасть в ГРУ.
ЗЭК
Мужичок лет 50–60, постоянно матерится и использует тюремные жаргонизмы. Всех, кто ему не нравится (а это каждый второй), называет «козлами». На руке у него наколки. Без умолку постоянно что-то рассказывает другому пациенту. Тот молча слушает.
День восьмой.
Илья и Семён выписались. Оба с какими-то диагнозами, но оба, кажется, ими недовольны. Комиссия, как оказалось, дело недолгое. По крайней мере, так вышло в их случае: они зашли — им задали пару общих вопросов — ответили — вышли. Минуты две на каждого. Вейп сел, и заряжать его более не от чего. Думаю, перетерплю. Немного тут осталось лежать.
Сегодня со мной наконец поговорил психолог, тот самый, что взбаламутил нас в шестой день. Мне он не показался ни добрым, ни злым. Наш разговор длился долго. Я плакал, говорил только правду и ничего, кроме правды, раскладывал карточки по группам, называл антонимы и вставлял пропущенные слова в истории. Человек этот сказал мне работать с психотерапевтом. Задавал много вопросов о моей пассивности, холодности и потерянности.
День девятый.
Прямо как в первые дни тут, я проснулся примерно в полночь и теперь не могу уснуть. В голову вновь пытаются пролезть нехорошие мысли, но, зная дату выписки и пройдя уже через некоторое, мне легче гнать их прочь. Не могу перестать всё время пересчитывать дни до выписки — я очень жду её, но всё равно тревожусь. Что за диагноз мне напишут?
Всё это произошло в моей жизни предсказуемо, но всё же так неожиданно. К такому трудно быть морально готовым.
В палате нас осталось четверо — все, кроме меня, спят. Ваня Е. вечером был очень весёлым, радуется выписке, а я радуюсь за него и буду скучать в эти оставшиеся дни. Мне показалось, что у нас с ним наладилась какая-то особая связь, без него мне тут точно было бы хуже. Лёша П. тоже утром покидает палату номер три. По нему я не буду скучать, но помнить буду всегда — в этом уверен. Лёша, в отличие от Вани, вечером грустил. Он сказал, что поссорился с родителями и потерялся в жизни. Это было очень искренне, без слоёв иронии. Мне жаль Лёшу, я надеюсь, что у него всё будет хорошо (на полях – как и у женщин вокруг него). Он много улыбался, но я все же видел, какая пустота и боль скрыты за этой улыбкой, какое жуткое смятение она маскирует.
За ужином Лёша сказал, что у него нет друзей, что мы чуть ли не первые люди в его жизни, которые не хотели его убить (на полях – мне иногда хотелось, грешен). Да, может быть, он и драматизирует, но ведь может и нет? Манипулятор есть манипулятор, он сам в этом признался. Хронический лжец есть хронический лжец, но, опять же, он признался нам в этом сам.
Я не оставил это без внимания. После некоторых бесед с Лёшей я начал видеть в нём некоторый слепок себя на определённом этапе. Я тоже часто пытался маскировать боль улыбкой и периодически ставил себя в положение клоуна, чтобы понравиться людям. Я тоже считал, что мои чувства настолько важны, что имею право упрекать людей в своей голове за то, что они им не потакают. Я тоже считал любовь универсальным оправданием. Только теперь я так уже не считаю, причём достаточно давно. Лёше нужно просто вырасти и поменьше сидеть в интернете.
Утро. Ваня и Лёша уехали. Лёша долго доказывал санитарке, что ехать домой в тапках — это нормально, потому что он не будет надевать ботинки, не обработав ноги формидроном. Санитарка только в этот момент, под самую выписку, кажется, наконец поняла, что с ним что-то не так.
Оставшиеся два с половиной дня обещают быть тихими и скучными, хотя в психушке редко так бывает. планирую дописывать всё, что не дописал, и дочитывать всё, что не дочитал. В палату, если кого-то и заселят, то только в понедельник, так что будем мы тут с Никитой чалиться вдвоём — ну и хорошо. Ребята выписались час назад, а с их кроватей еще не убрали бумажки с именами.
Я впервые тут помылся и, несмотря на весь дискомфорт этого процесса, сейчас уже доволен. Ходить с сальными волосами и вонючими мудями мне очень надоело.
Процесс мытья таков: в палату раз в день заходит санитарка и сообщает об открытии бани, обычно это происходит до полудня. Говоришь свою фамилию, идёшь в очередь. Баня — это комнатка с кушеткой, ванной, двумя душевыми кабинами, баками для грязного белья и (в моём случае) двумя таджиками-уборщиками, которые постоянно пытались вручить мне психушечные трусы и полотенца by Кащенко, но всё же я надел свои.
Кабинка страшноватая, но на девятый день тут уже мало что может напугать. Вместо шампуня — какой-то крем, который не пенится, вместо мыла — заранее промыленная одноразовая мочалка. Шторка, к счастью, есть.
Мне повезло, и когда я вышел из кабинки, я не наткнулся на то, как санитарки моют в ванной жирдяя из шестой палаты. Некоторые пациенты с явно эксгибиционистскими наклонностями любят очень подолгу там переодеваться.
Сейчас в палату зашла моя любимая санитарка. Громко разговаривая с кем-то по телефону, она в долю секунды сорвала бумажки с именами ребят своими ногтями. Всё, койки готовы к новым спинам.
Почти девять часов вечера. Состоялась наконец и у меня беседа с психиатром, я снова решил говорить правду, как её чувствую. Больше тут мне нечего делать, только ждать дату выписки. Выходные обещают быть очень пустыми и безникотиновыми. Ещё чувствую, что если раньше тревожился из-за предстоящей встречи, то теперь буду тревожиться из-за того, как она прошла. Прошла она совсем не так, как я предполагал в бесчисленных прогонах этого разговора в своей голове перед сном.
Десять вечера, в палате погасили свет. Никита спит, вдвоём мы с ним почти не общаемся. В палате, правда, стало невероятно тоскливо. Тишина.
День десятый.
Девять утра. Такое ощущение, что каждый санитар тут, каждый уборщик и каждый фельдшер считает своим долгом со всей силы ебануть входной дверью, особенно в вечерние и утренние часы, когда многие спят. Ебануть настолько громко, чтобы всё отделение содрогнулось, причём не раз и не два, а ходить взад-вперёд непрерывно минимум час.
И этого ещё мало. Вход в отделение, разумеется, закрыт, и чтобы войти, нужно позвонить в звонок.
Можно было бы сделать такой звонок, который отображался бы только у дежурного на посту, допустим на экране компьютера, но вместо этого инженеры Кащенко когда-то приняли решение установить буквально школьный звонок из 60-х годов СССР — насколько раздражающий и оглушительный, настолько часто и звенящий. Просто пиздец.
У нас в отделении новый крикун, только, в отличии от жирдяя, он орёт не ночью, а всегда. Его крики куда сильнее раздражают: они более визгливые.
Сегодня нас снова выводили гулять. Эта безальтернативность раздражает больше всего: я бы, может быть, и с удовольствием погулял, но не в загоне и по собственному желанию. На прогулке с нами были пациенты из соседних отделений. Среди них почему-то был ребёнок. Именно ребёнок, а не человек с задержкой в развитии: у него был детский голос, повадки и совсем детское лицо. Одет он был как обычный пациент. На нём висела форменная куртка с номером отделения. Он кидал каштанами в металлическую крышу беседки, кидал и смеялся. Остальные пациенты убирали граблями опавшие листья.
Новый буйный орёт и бьётся сегодня весь день. Он настолько занимает всё внимание санитаров, что они даже телефоны сегодня забрали у нас на час позже. На обед был рассольник, который даже имел вкус, либо я просто уже привык к этому вкусу, что не может не напрягать. Осталось провести тут один день и две ночи.
У туалета сейчас три грации: дед на вязках, дед с мочесборником и жирдяй из шестой палаты. Никита сказал, что сегодняшний день очень долго длится, не могу с ним не согласиться. Насколько же долго будет длиться завтрашний день, и уж тем более ночь?
День одиннадцатый (последний).
Меня разбудила санитарка и отправила завтракать — на мои возражения, что завтракать я не хочу, она сказала, чтобы я хотя бы попил чай, ибо это полезно для кишечника. Чай на завтрак не подали, а я бы и правда не отказался.
Вместо чая была бледно-телесная жижа в грязных кружках, пить я это не стал. Съел яйцо без всего, кусок белого хлеба и запил это водой из кулера. Сидел за столом с кубинцем, который поступил два дня назад. Он протянул мне яйцо, и я подумал, что он хочет сыграть в пасхальную игру.
Я ударил своим яйцом по его, тем самым разбив скорлупу; на мою декларацию победы он улыбнулся и повернул яйцо другой, целой стороной. Я ударил опять — и опять выиграл (это было нетрудно, ибо усилие к победе прикладывал только я). Проиграв два раза подряд, кубинец отложил яйцо и начал мазать маслом кусок хлеба, потеряв ко мне всякий интерес.
В палате очень холодно. Ночью от ветра открылось окно. Окна тут без ручек и открыты поэтому постоянно, их можно только прикрыть, но не закрыть полностью.
Я выступаю за права человека и крайне осуждаю любое их нарушение, но ей-богу, даже я сейчас готов воткнуть кляп в рот этому припизженному на вязках и с мочесборником, что сидит в коридоре у туалета. Он без перерыва орёт уже третий час. Сейчас полдень, орёт он с девяти.
Что-то под самый конец моего пребывания тут завезли целую кучу реально неуравновешенных персонажей. Если в начале таких было от силы трое на всё отделение, то теперь тут чуть ли не каждый второй — пациент Кащенко в самом истинном смысле. У многих началось осеннее обострение.
Палата номер три сегодня напоминает проходной двор. По какой-то причине все подряд заглядывают и пытаются что-то или кого-то найти. Некоторые пациенты просто заходят, смотрят на меня тяжёлым взглядом и уходят, на мои «здрасте» не реагируют. Один новенький шизофреник заинтересовался большим количеством книг у меня на тумбе, берёт у меня почитать, кажется, его зовут Юра.
Я сам погасил свет в палате, хочу поскорее уснуть. Не верится, что уже завтра это закончится. Больше всего хочется всех обнять и выпить чашку кофе. У советских диссидентов, находившихся в застенках карательной психиатрии, была такая примета: если ты видишь в своей палате насекомое — скоро выписка. Вчера к нам в палату залетела ночная бабочка.
Я зачеркнул сегодняшний день в календарике. Время сейчас около десяти вечера.
Мы пережили страх, увидев смерть души.
Надгробие над койкой – искупление.
И молодой , и старый пассажир
На поезде в шестое отделение.
Могильный крест, пластмасса и забвение.
Оставь на входе свой слезливый труп –
Шприцы, уколы, бред, шизофрения.
А санитары тут всё бегают и ждут.
Как мёртвому награда – погребенье,
Душа ушла, а телу – вязки , ж гут.
Оставь печали , завтра понедельник –
Горбушку хлеба , может , свежую дадут.
— 19.10.2025
aktuele