Оставил самую опытную для продолжения HD
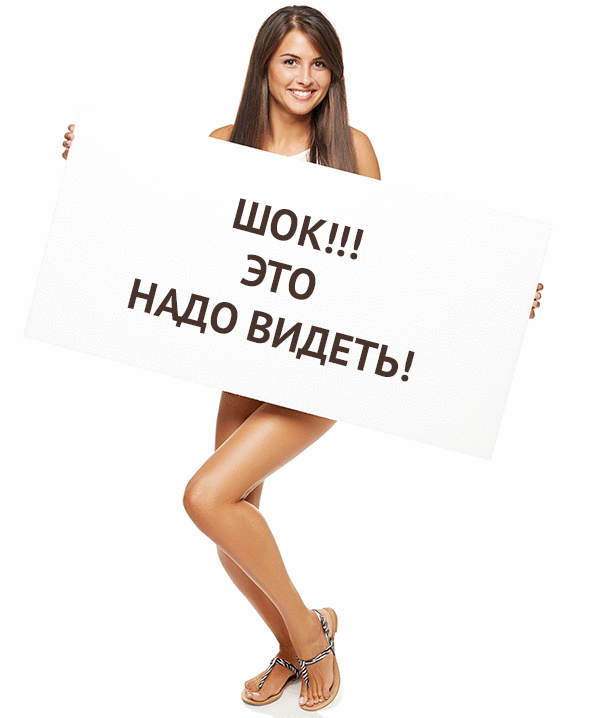
💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Оставил самую опытную для продолжения HD
Я навеки останусь, видимо
В этих списках пропавших без вести,
На фронтах той войны невидимой
Одаренности с бесполезностью…
И. Брусенцов
ЧАСТЬ 1
Пролог
Доктор лениво потянулся, отложил газету и подошел к открытому окну.
Сумерки уже просачивались на светлое платье дня, проступали – постепенно и неотвратимо, как темные пятна на белой ткани, брошенной на мокрый пол. Мягко, убаюкивающе, шепталась молодая листва, растущего под окном тополя и, поддаваясь этому умиротворенному шепоту, замолкали галдевшие весь день птицы.
Было свежо, но не холодно: май уже не скрывал готовности раствориться в наступающем лете.
Пошарив в карманах халата, доктор вытащил сигареты, ощупал брюки в поисках зажигалки, подумав мимоходом, что как-то уж подозрительно спокойно проходят его майские дежурства. Вот уже третью смену тишь да гладь. Не к добру.
Наверное, мысль и правда материальна. Он не успел даже прикурить, как безмятежную тишину отделения взорвал пронзительный истеричный визг, сразу же перешедший в громогласное рыдание.
– Ну, вот, ; с досадой сплюнул доктор. – Накаркал...
Бросил еще незажженную сигарету на подоконник и поспешил из ординаторской.
Почти весь личный состав женского отделения психиатрической больницы, уже толпился в широком холле. Стоя большим полукругом, толпа колыхалась и монотонно гудела: хоть какое–то событие в этой однообразной больничной серости. Одни, блестя глазами, пробивались к переднему краю, другие вставали на цыпочки и с досужим интересом высматривали через плечи. Кто нетерпеливо перешептывался, а кто, с напуганным лицом отстраненно жался к стенке.
Завидев приближающегося доктора, пациентки торопливо расступились и его взору предстала знакомая, ожидаемая, как дежавю, картина.
Седая старушонка, угрожающе подбоченясь и гневно сверкая глазами, негромко, но жестко поносила трех своих сотоварок по несчастью. Две пожилых женщины сидели на диване, сострадальчески обняв друг дружку, и горько, почти беззвучно, плакали, широко открывая беззубые рты. Дикий рев исходил от третьей: закатив глаза, она лежала у их ног и, перекатываясь с боку на бок, пронзительно вопила.
– Молчать! – шипела старушка, делая клюющие движения головой. – Возомнили о себе, сявки. Забыли, с кем говорите? Не сметь смотреть!
– Прекратить! – грозно, на ходу, крикнул доктор и подойдя к зачинщице, крепко взял ее за локоть: – Ну что опять? Что? Давно процедуру не делали?
Не отрывая строгого взгляда от седой взлохмаченной головы, он чуть повернул лицо в сторону и позвал:
– Дима!
– Аушки, – отозвался из дальнего конца коридора металлический басок, заслышав который, толпа пришла в движение и робко заметалась. – Бегу, Владимир Степанович, бегу.
Не слишком церемонясь и расталкивая огромными плечами стоящих на его пути женщин, к врачу подошел здоровенный, почти двухметровый санитар – студент-пятикурсник, в голубой, тесной пижаме и смятым чепчиком на стриженой голове.
– Давай, в процедурную, пока не началось – с раздражением и, вместе с тем с сочувствием, сказал доктор.
– Понял, – кивнул санитар и, согнувшись почти пополам, приблизил спокойное лицо к скандалистке: – Буяним, товарищ министр? Ай-яй-яй.
Седая макушка поникла, глаза как будто заволокло туманом.
– Я за дело болею, – забормотала она. – Дисциплины никакой... совсем, совсем... приказывала, ведь, должно, как в армии... уважать... молчать...
– Приказала она, – пробасил Дима. – Тут и без вас приказчиков пруд пруди.
Владимир Степанович огорченно покачал головой:
– Ты смотри, никак не угомонится... Три года ведь уже у нас квартирует, бедолага, и все не упустит случая поруководить.
– Ладно хоть нас строить перестала, – хмыкнул Дима.
– Зато теперь на самых безобидных да беззащитных перекинулась.
Дима медленно выпрямился и деловито спросил:
– По схеме, Владимир Степанович?
Доктор кивнул и обреченно махнул рукой:
– Теперь все равно не успокоится.
– Понял. – Санитар приобнял старушку за плечи и она почти исчезла за его могучей рукой. – Пойдём, бабуль, «коктейлем» угощу.
Он легонько шлепнул ее по спине и та молча засеменила за ним.
Не спеша дойдя до буфета, Дима заглянул в открытую дверь.
Там, вяло переговариваясь, пили чай две сестры.
– Катюш, – весело подмигнул он. – Шабашка тебе.
– Да я уже поняла, – саркастично усмехнулась одна – яркая, с роскошной грудью, огромными зелеными глазами и с теми особыми повадками, которые свойственны женщинам, прекрасно осознающим силу своей красоты.
Небрежно поведя изящной бровью, она повернулась к напарнице:
– Я ж говорила, министерство здравоохранения опять бузит.
Вторая сестра, совсем девчонка, с конопатым лицом и рыжей челкой, прыснула в чашку, отчего чай в ней громко булькнул.
Смущенно вытирая капельки с забрызганного стола, рыженькая уважительно качнула головой:
– И как ты угадала?
– Было б чего угадывать. – С привычной осторожностью, чтобы не смазать помаду с губ, красавица прихлебнула и нехотя отставила кружку. – Одна у нас такая...
Она прервалась, чтобы взять с соседнего столика высокий, до совершенства накрахмаленный колпак, снятый на время чаепития.
– Беспокойная, – подсказала напарница, не сдержав ехидного смешка.
– Беспокойная, – несогласно хмыкнул Дима. – Самая зловредная в мире бабка.
– Не бабка, а министр, – иронично поправила Катюша.
Кокетливо водрузив чепчик на мелированное каре, она с удовлетворением оценила свое изображение в зеркале над мойкой и медленно повернулась к притихшей буянше:
– Пойдем, начальственная ты наша, – буркнула она, лениво измерив ее взглядом.
И, величественно держа спину, не оглядываясь, пошла по коридору.
Старушка, ведомая великаном-санитаром, послушно и отстраненно, пошла за ней, глядя в спину пустым затуманенным взором. Казалось, она совершенно обособилась от окружающего мира, не замечая никого и ничего.
Так и прошла весь путь, не меняя выражения лица: по длинному коридору, мимо боязливо сторонящихся сопалатниц, до самой процедурной. Покорно выждала, пока красотка-сестра, громыхая связкой ключей, открыла дверь, словно сомнамбула вошла за ней в кабинет, навеки пропахший кварцем и сложной лекарственно–больничной смесью, сразу же вызывающей тревогу и страх.
И лишь когда стукнула, закрываясь, дверь, будто очнулась.
Туман, спасительно оберегающий нездоровую душу и заботливо покрывающий глаза в минуту надлома, будто выветрился. В них вдруг постепенно начало проявляться привычное выражение лютой ненависти, заметно усиленное штрихом панического отчаяния.
Вскинув голову и пронзив колючим сатанинским взглядом держащего ее санитара, она с силой дернула руку.
– Стоять, – даже не шелохнувшись, пропел Дима.
– Пусти, – обреченно зарычала та.
Санитар, не миндальничая, рывком подтянул возбудившуюся старушку к себе, намертво прижав ее другой рукой.
– Катюня, ты это, давай-ка пошустрей, а то сейчас, кажется, опять начнется.
– У меня не сто рук, – огрызнулась та, но, оценив взором яростно вырывающуюся из цепких объятий пациентку, все же ускорилась и, торопливо вскрыв ампулы,
начала набирать шприц. – Когда ж ты уже, наконец, угомонишься? Давай, клади ее.
Осознав неотвратимость насилия, старуха, неистово извиваясь, посыпала проклятьями.
– Сгною, – устрашающе хрипела она, срывающимся от напряжения и бессильной злобы голосом. – Слышите, твари? Сгною! Землю у меня жрать будете! Вы знаете кто я? На кого посмели? Сявки... бездари... ненавижу... Ненавижу!
Ее давно не стриженые ногти впились в мускулистую руку санитара. По-звериному рыча, она заклацала зубами, пытаясь укусить.
– Так, полегче, полегче, – коротким рывком осадил ее Дима. – Я ведь и обидеться могу. А тогда уже электричеством лечить буду. Хотите?
Но она, словно не слыша, продолжала свою борьбу. От усердия по вискам потекли струйки, мгновенно взмокли спина и подмышки. В воздухе появился тяжелый, неприятный запах пота, перебивающий даже вековечный фармакологический дух кабинета.
– Держи руку как следует, – брезгливо сморщившись, приказала Катюша.
Дима молча усилил давление, напрочь обездвижил тело и с непробиваемым, даже задумчивым лицом, начал рассматривать кровоподтеки на своем предплечье.
Сестра привычным жестом мастерски затянула жгут на бьющемся в тщетных попытках вырваться из–под надежного пресса накаченных рук санитара плече.
– Всех сгною, твари! Всех! Вы поняли меня?! Твари, мерзавцы!
– Сама такая, – походя сказала Катюша и, прицелившись, ввела иглу в вену.
Больная обреченно закричала. Так страшно и пронзительно, что у давно привыкшей к буйству своих клиентов сестры, по спине пробежал холодок.
Передернувшись, она рывком ослабила узел жгута и медленно надавила на поршень.
По вене заструилась ломящая прохлада.
Старуха прервала крик и, дрожа от напряжения, сделала последнюю попытку вырваться. От нечеловеческой натуги глаза покраснели, вздулись извилистые дорожки сосудов на лбу.
Скрежеща зубами, она глядела застывшим, стекленеющим взглядом на своих врагов и зловеще хрипела, прерывая этот хрип только затем, чтоб выдавить очередное проклятие. В уголках перекошенных ненавистью губ, пузырилась, лопаясь и растекаясь, тягучая слюна.
– Господи, да уймется она когда-нибудь! – не выдержав, вскрикнула сестра.
– Гвозди бы делать из этих бабулек, – согласился Дима.
Перед глазами старушки всё поплыло, закружилось.
И, вместе с тем, неожиданно пришло ощущение, что потраченные на неравную борьбу с
санитаром силы возвращаются. Прислушиваясь к себе, она радостно замерла и, глубоко, словно в последний раз, вдохнув, натужно зарычала и резко рванулась.
И барьеры рухнули.
Санитар и сестра беспомощно отлетели в разные стороны.
Старуха, чудесным образом – почти так же, как много лет назад – триумфально поднялась над кушеткой, а затем легко воспарила над кабинетом.
Окинув победным прищуром поверженных сатрапов, испуганно жавшихся к стенке, она громко захохотала и, тряхнув растрепавшимися космами, уложила их в идеальную прическу. Затем поднялась к потолку, сделала оборот и, когда–то дорогой, с вышитыми золотой нитью по полам драконами, а теперь старый затасканный халат, превратился в шикарное платье.
Она бросила взгляд вниз. Там, всего минуту назад такая высокомерная и невежливая Катюша, безумно выпучив глаза, исступленно молила о пощаде. Забившись под мойку и обхватив дрожащими руками голову, скулил Дима.
На его голубых штанах темнело, расползаясь и ширясь, мокрое пятно.
Медленно пролетев над ними, старушка презрительно плюнула и обратила взор на окно. Там, за тонкой преградой стекла, уже давно ждала ее возвращения прежняя жизнь.
И она, счастливо засмеявшись, устремилась к ней.
Словно зверь, вырвавшийся из плена и, что есть силы несущийся к спасительной кромке леса, ее память, получив вольную, сразу же бросилась в прошлое. Туда, где осталась привычная, безбедная, легко просчитываемая наперед жизнь и откуда ее выдернула какая–то нелепая ошибка судьбы, случайный сбой отлаженного механизма ее мироздания.
Окрашенные бежевой эмалью стены качнулись, тронулись и начали набирать неимоверно высокую скорость. Растянувшись до бесконечности, они то отдалялись, то приближались почти вплотную, то нависали над головой, то закручивались затяжной спиралью, которая опять выбрасывала на беспрепятственный простор.
Вожделенный квадрат окна увеличивался с каждой секундой, становился все ближе, пока, наконец, не закрыл собой всю панораму взора.
Спокойно пройдя сквозь твердыню стекла, словно это была паутина, она вылетела на волю...
– Смотри, какая улыбка-то счастливая, – миролюбиво сказал Дима, с интересом рассматривая успокоившееся, разгладившееся лицо уснувшей пациентки. – И вроде даже симпатичная бабулька, скажи?
– Тебе галоперидольчику ввести, тоже, небось, заулыбаешься, – хихикнула Катюша, снимая перчатки.
– Да нет, –– помолчав, протянул Дима, – не в этом деле. Просто она сейчас опять там, где было хорошо...
А полет все продолжался, даря ликование и сладострастную легкость во всем теле. Она летела так уверенно и привычно, что уже воспринимала это
совсем не как чудо, а как само собой разумеющееся дарование, данное Богом – всего одно из множества ей присущих.
Вокруг мелькали какие–то дома, автомобили, фигуры и лица людей, рассмотреть детально которые просто не представлялось возможным из-за сверхвысокой скорости парения. Со всех сторон лился перемежающийся гул – это были звуки ее воскресшей настоящей жизни. Там, не умолкая ни на секунду, что-то стучало, хлопало, звенело, слышались голоса, раздавались обрывки фраз и чьего-то заливистого хохота.
И над всем этим плыл настойчивый и жалобный плач ребенка: то совсем близкий, то едва различимый...
Глава 1 (тремя годами раньше)
Плач ребенка казался бесконечным.
Надрывный, безысходный, он то переходил в дикий вой запуганного, загнанного звереныша, то, прервавшись судорожным всхлипом, возобновлялся жутким стоном мученика, познавшего самую бездну страданий.
Жалобный, затопленный крупными слезами взгляд, безмолвно кричал о чудовищном, страшном перевороте, происходящем сейчас в его душе. В крохотной и доверчивой душе, знавшей до этого момента только любовь и ласку, видевшей только умиление и добрые улыбки. И которую, словно сорняки, безразлично разрушающие красоту и гармонию цветочной клумбы, грубо и равнодушно уродовали новые неведомые чувства: страх и одиночество, незащищенность и ненависть. Они постепенно и неотвратимо закрашивали ее первородную белизну своими черными красками, навсегда меняя маленького человека.
Это был не просто плач – это был реквием вере.
Вере в справедливость мира взрослых людей.
Малыш плакал так горько и отчаянно, словно предавал анафеме этот мир. Мир, который только притворялся добрым и ласковым, скрывая до поры другие стороны своей непростой сути. И который так жестоко и вероломно показал их, ниспослав боль, страдание и лишив всесильной материнской защиты.
Вынести это, не содрогнувшись, мог только самый бездушный человек.
Или – медик...
Напротив исходящего плачем малыша, на свободной койке с матрацем в клеенчатом чехле – когда-то ярко-фиолетовым, но давно обесцветившемся от хлора, – сидела немолодая, полноватая медсестра. Она задумчиво покачивалась, чуть слышно мурлыкая под нос какую-то мелодию.
Рядом, облокотившись о спинку кровати, суетливо переминалась с ноги на ногу другая медсестра, совсем молоденькая, стройная. Нижняя половина ее лица была наглухо скрыта марлевой повязкой, верхняя – по самые брови – невысоким накрахмаленным чепчиком. Оставались незакрытыми только большие серые глаза, с выражением предельного волнения, почти граничащего с нервным срывом.
Она, не отрываясь, следила за малышом, в то время как первая лишь изредка бросала на него пристальный, все подмечающий взгляд.
Они походили на двух бойцов, ожидающих битвы. Молодого новобранца и старого прожженного ветерана, знающего не понаслышке правила ведения боя.
Спокойная уверенность старшей, небрежно спущенная на подбородок марлевая маска с розовым пятном от губной помады, и даже это мурлыканье – казалось бы, неуместное, но, на самом деле, просто скрывающее терпеливое ожидание предстоящей работы, – все это говорило о большой жизни, прожитой в медицине.
И напротив, заметный трепет молодой, прилежное соблюдение канонов санэпидрежима, наивный взгляд, полный блаженной веры в то, что все будет так, как написано в учебниках, – все выдавало в ней недавнюю выпускницу медучилища.
Старшую звали Людмила Григорьевна Васильева и она, действительно, уже очень давно работала в реанимации, сразу после окончания училища в начале семидесятых. Несмотря на свое, отнюдь не изящное телосложение, Людмила Григорьевна обладала просто неуемной энергией. Ее активность и бодрость никак не зависели от времени суток. Разрушая все стереотипы о неповоротливости, неловкости и тяжелой поступи тучных людей, она никогда не сидела на месте, постоянно была в движении. И делала это, на зависть многим статным сестрам пластично, даже грациозно. К тому же, была остра на язык и никогда не лезла за словом в карман.
Людмила Григорьевна давно уже стала легендой отделения.
Талант от бога – собраться в критической ситуации, уверенность и грамотное исполнение своих обязанностей, подчас, даже опережающее распоряжения врачей – все это вызывало у молодых сестер трепетное почтение и желание подражать. Потому, что сами они в подобных случаях паниковали и теряли контроль не только над ситуацией, но и над собой.
И Людмила Григорьевна, как никто другой, умела привести их в чувство, встряхнуть, не всегда литературным, но безотказно действующим словцом. Причем, без злобы и присущей в клиниках «дедовщины». Не найти после этого верного решения, могли только самые безнадежные.
Но такие, как правило, в реанимации не задерживались.
Внезапно плач малыша будто надломился, потерял интонации, сделался монотонным. В тот же миг прекратилось и пение Людмилы Григорьевны.
Она настороженно вытянулась и внимательно посмотрела на ребенка.
А крик больного мальчика словно увяз и в считанные секунды свалился с фальцета до самой возможной нижней нотки. Глазки широко открылись и изумленно уставились в одну точку. Неуверенно и тихо вскрикнув еще раз, он замолчал и, медленно закрыв глаза, заснул.
– Как-то так, – удовлетворенно сказала Людмила Григорьевна.
Ободряюще подмигнув Леночке – молодой напарнице, она опять замурлыкала, натянула на нос маску и повернувшись назад, где за выступом в нише слышался шум льющейся из крана воды, громко объявила:
– Олег Иваныч, пора, уморился.
Как и всякий мастер, она хорошо владела профессиональным сленгом и, даже, частенько обновляла его. «Уморился» на этом сленге означало, что наркоз подействовал и можно начинать процедуру.
– Иду, – послышался за нишей приятный, негромкий голос.
Шум воды прекратился и в бокс зашел врач, Олег Иванович Щадов.
Он был высок, худощав, одет в темно-зеленую, изрядно полинявшую от частой стирки больничную робу и такого же цвета невысокий колпак. Лицо закрывала марлевая повязка. С поднятых вверх предплечий стекались к локтю струйки воды и падали на серый кафель пола частыми каплями.
– Несем, – то ли спросила, то ли утвердительно сказала Людмила Григорьевна и не дожидаясь ответа, кивком головы дала Лене сигнал перенести ребенка в реанимационный зал.
Взяв на руки затихшего и обмякшего малыша, та облегченно и даже радостно прошептала :
– Так плакал, я думала уже с ума сойду. Так жалко...
– А то, – согласилась Васильева, прикрывая ребенка простыней. – Только, запомни: жалеть – это не по головке гладить да сюсюкать. Мы по-другому пожалели. Он теперь, родненький, ничего не почувствует.
Леночка положила крепко спящего мальчишку на большой, узкий стол, заранее застеленный стерильной простыней и посмотрела на Людмилу Григорьевну – все ли правильно? В отделение она пришла недавно, еще тушевалась и робела, поэтому после любого действия ждала реакции старших.
Старшая одобрительно подмигнула. Она уже обрабатывала спиртом не закрытую стерильной пеленкой правую половину грудной клетки.
– Ничего не забыла, не?
Леночка, вспоминая, задрала голову и усердно зашевелила губами.
– Правильно, – подбодрила Людмила Григорьевна. – Свет.
Хлопнув себя по лбу, та включила большую круглую лампу над столом.
Олег Иванович, с улыбкой наблюдая за сестрами, привычными движениями от пальцев к локтю вытирал или, говоря на сленге, «сушил» руки марлевыми тампонами.
– Перчатки, – попросил он, кинув тампоны в лоток.
Леночка с детской старательностью растянула перед ним слипшиеся раструбы одноразовых перчаток.
– Спиртику не желаете? – игриво спросила Людмила Григорьевна.
– Отчего же, – согласился доктор и сд
Молодой ловелас трахает телку в зад
Шалашовка с тату на ляжке облокачивается на кровать и принимает в анал хуй мужчины
Харкдор со зрелыми дамами и сквиртинг в сборнике