ОТВЕТ АЛЕКСЕЮ ИБСОРАТОВУ
Григорий Шокин
Алексей, доброго времени!
Продолжаем диалог. Прошу заранее извинить за долгое молчание, учеба наконец-то напомнила о себе и о том, что у всего существуют сроки отчетности. В общем-то, и на моем ответе это неизбежно скажется – не раз и не два убеждался, что реагировать лучше всего, пока течет любимый кетчуп, льется кровь, железо куется и т.п. Так что, возможно, эта конкретная реплика выйдет немного вялой, затушеванной.
Оттенки снобизма, противопоставление простым людям? Мир Балларда и Кэтрин сам по себе изначально очень снобский – это мир финансово-успешных буржуа: архитекторы, врачи, обслуживающий персонал, Шеппертон. Я бы сказал, что Вон как персонаж как раз-таки делает Балларда ближе к народу, несет такой извращенно-коммунистический посыл в его затхлый, лишенный всякой животворной циркуляции мирок. Не скажу, что смысловая или оттеночная картина принципиально поменялась именно в этом нюансе.
Откуда вообще возникла идея, будто Баллард писал книгу с целью кого-то возмутить, эмоционально спровоцировать, шокировать и т.д.? Я думаю, он не писал ее так, но он не мог не осознавать, какое именно впечатление она окажет на читателя. Пусть критика тех лет и заблуждалась, она нередко презентовала роман именно таким – и при этом делала ему неплохую кассу, кажется; приобщала к этой революционной вещи все большее количество людей. Сам же Баллард писал в одном из предисловий к «Крушению»: «И вряд ли стоит напоминать, что главная цель произведения – предупреждение, предостережение против грубого, эротизированного и ослепляющего царства, которое все настойчивей манит нас с окрестностей технологического пейзажа»; хотя потом, позже, признавал – нет, все не так или не совсем так, и я скорее пытался оправдаться перед критикой. Это легкое, скажем так, авторское кривление душой – разве не весьма наглядное признание (или хотя бы осознание) «шокирующего» потенциала своего детища?
Я согласен с тезисом, что «Крушение» – это поэма перечислений. Холодная? После всех черновых версий романа я бы не стал заявлять наверняка – повторюсь, в какой-то миг у меня возникло устойчивое впечатление, что Баллард поначалу писал немного другую, не лишенную странного юмора и зловещего подмигивания книгу. Может, чуть более теплую и даже чуть более грязную. Так или иначе: чтобы все конечные перечисления наконец-то «выстрелили», а холод ожег, каким-то образом недостаточно переводческих методов того же Мирошниченко или Андреева. У первого косноязычие в духе «яростных зеленых идей» Ноама Хомского убивает одну (важную!) часть читательского впечатления:
«Своеобразным движением шеи она повернула лицо, непроизвольно обрушивая на меня свою травму. Дойдя до двери, она приостановилась, ожидая, когда я сойду с ее пути, Я взглянул на шрам на ее лице – трехдюймовый след от невидимого зиппера – пробежавший от правого глаза к уголку рта. Сочетаясь с другими черточками лица, эта новая линия создавала образ линий ладони чувствительной и неуловимой руки. Читая воображаемую биографию, начертанную на этой коже, я представил себе, как она, роскошная, но переутомленная студентка-медик, получив диплом врача, вырывается из затянувшегося юношества в период неопределенных сексуальных отношений, счастливо увенчавшихся глубоким эмоциональным и сексуальным союзом с мужем-инженером, и каждый обшаривает тело другого, словно Робинзон, ищущий, что бы забрать со своего корабля».
Другой просто много чего опускает – и вот уже пресловутое «перечисление» не представлено полным; убита какая-то другая, и тоже важная часть…
Как видите, все упирается в читательские впечатления… причем именно такие, неспециализированные, лишенные академичности. Сэлинджер М.Н., как отмечается Вами, «куда задорнее». Но это же не вполне Сэлинджер, это, строго говоря, совсем другое произведение в своей языковой составляющей; перевод Р.-К. – это куда более Сэлинджер, чем видится множеству противников перевода Р.-К.
Мне остается лишь посетовать вот на что. Где-то попалось такое мнение: «Надо учитывать, что в „лесорубе“ вышел симулякр „Крушения“ Балларда – текст монтировался произволом переводчика из разных редакций и черновиков. То есть оригинала у изданной по-русски книги не существует». И тут от меня летит весьма обоснованная (наверное?) претензия к коллегам-баллардианцам за океан: почему не существует академического издания «Крушения»? Даже по тем фрагментам, которые я исследовал при подготовке своего перевода, даже по моей ограниченной работе с рукописями предельно ясно – оно необходимо. Там очень много такого, что нужно сверять, выделять, подчеркивать и показывать, какая это есть – была – могла бы быть – книга. Тогда бы появился не симулякр, а оригинал, и кое-какие мои стратегии обрели бы фундамент в глазах большинства. Но увы. Пока что довольствуемся тем, что есть, и ждем читательскую рецепцию хотя бы с этой стороны.
Вообще, есть уже какая-то идея «очистить» мой перевод «Крушения», «откатить» его к авторской редакции 1.0. (см. Random House) и посмотреть, сохранится ли выполнение в этом тексте тех задач, которые видятся мне критически важными для восприятия этого текста как можно бо́льшим количеством читателей.
Насчет профессионализма Пчелинцева мне судить будет сложно. Я никогда вплотную не изучал подход этого переводчика, не знаю его негативную симптоматику, равно как и позитивную. Всегда ли он такой или только в случае с Бестером и Хайнлайном? Играет ли какую-то роль восприятие Пчелинцевым Бестера и Хайнлайна? А так ли «профессионален» (в устаревшем архаическом смысле) Пчелинцев, как нам видится? Самого Пчелинцева нет в этой дискуссии, и ответ мы можем получить только для себя – и это будет, во-первых, субъективный, во-вторых, интроспективно-переводоведческий ответ; что-то сродни опыту со спиритической планшеткой или гаданию на кофейной гуще. Мой взгляд на проблему – все кроется в апокалиптической атмосфере 90-х, где Пчелинцев творил: тогда хотелось и получить авторов зарубежных литературных хитов в хорошей русской «аранжировке», и чтобы все это слегка (но не до неузнаваемости желательно) искривлялось через призму местечкового постмодернизма, чтобы звучало как никогда актуально, с цитатами из русского рока и привкусом летовской полыни во рту. Чтобы древние культурные отсылки считывались на лету, а не через долгое копаниие в справочных материалах – на это времени в девяностых не оставалось, кажется; это симптом более сытых и устроенных эпох. Вот отсюда и получались эти «Луна жестко стелет», «Чужак в стране чужой» и т.д. Возможно, и «Ловец на хлебном поле» наряду с «Обрывом на краю ржаного поля детства» происходят оттуда же, из тех же времен и идентичных майндсетов. Насколько они, эти майндсеты, мюнхгаузеновские – я судить не берусь. Есть ли у меня мюнгхаузеновский майндсет? Как мне видится – едва ли. Я решал совершенно другую задачу (я об этом уже говорил) – и, хочется верить, более последовательно. Но, наверное, симптоматично, что всякий раз здесь речь идет о т.н. «культовых» (кроме романа Бестера – он даже на родине автора уж очень сильно в тени «Тигра») произведениях.
А делал ли кто-то так еще? Да, например, замечательная переводчица Ксения Егорова – с романом, будь он неладен, Чака Паланика «Пигмей». В гораздо более приближенном к причудам оригинала (и, несомненно, талантливом) переводе Никиты Красникова вещь эту читать трудно (объективно). У Егоровой же каким-то чудом вышел все еще лексически своеобразный, но куда более «летучий», более типично-паланиковский текст. Немного с попранием оригинальной своеобразности, но… Думаю, массовый читатель им будет более чем доволен. А вот академический читатель Паланика… ну, призываю таковых, если они присутствуют где-то, взять слово!
P.S. (большой такой P.S.), в котором Григорий отвечает на критику перевода Лавкрафта из статьи Галины Масюковой.
Быстренько пройдусь по тезисам большой критической заметки одного из участников почти назревшей дискуссии.
1) «Старомодность? Ок, переводчик честно пытается „дать архаики“, но получается это в основном невпопад».
Ровно в той же мере, в какой сам Лавкрафт был «невпопад» для современников. Ради эксперимента почитайте его товарищей по журналу Weird Tales в оригинале – по текстам можно изучать задорное американское арго 50-х, golly gee. Открываем Лавкрафта – и тут же погружаемся в мир инопланетных интриг, изложенный… викторианским языком сестер Бронте. Почему-то никто не думает о том, что именно этот подход Лавкрафта и обессмертил – где еще такое найдешь. Ну и странно упрекать меня в «архаике невпопад», когда есть в русских переводах «Дела Чарльза Декстера Варда», скажем, такое:
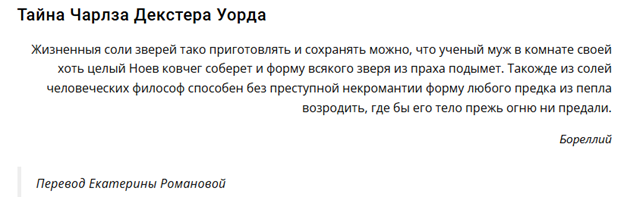
Скажите теперь, что моя архаика «невпопад» – у меня в этом месте всего-то:
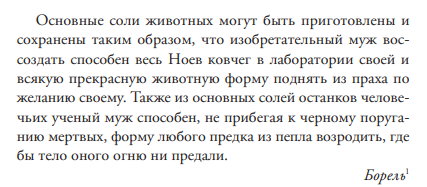
(Изумившимся, почему «некромантия» превратилась в «черное поругание мертвых», предлагаю сначала задуматься над этой достойной лингвистической задачкой самолично, а потом обратиться ко мне за правильным ответом. Обоснование там вполне научное, а не «я так вижу». Собственно, большая часть правильного ответа лежит в скребущих глаза проблемах перевода Романовой.)
2) «Резко меняющаяся в определённый момент манера речи молодого героя романа в таком лексическом окружении особенно-то и не меняется, не настораживает и того тревожного эффекта, какой могла бы, не создаёт».
Это было бы серьезной претензией, если бы не одно существенное «но». В романе нет диалогической речи Варда до превращения. Вард описывается со стороны, но ни разу не «звучит» сам, как персонаж. Описывается, что он говорил и при каких обстоятельствах (до превращения), но – только описывается, а не приводится; «несовращенному» Варду автор слова не дает – да и он ему, думаю, в таком состоянии не вполне интересен. С доктором в финальной сцене романа говорит ведь уже не Вард, а Джозеф Карвен. Дитя другой эпохи со специфическим языковым портретом.
3) «Выяснилось, например, что Шокин, бесспорно, во множестве мест был более буквален при переводе, но, увы, ни в одном из этих случаев не более литературен».
Расплывчато. Даже не знаю, что сказать. Критерии литературности было бы здорово привести, хотя бы в понимании критикующего.
4) «Бросается в глаза непоследовательность перевода имён и названий: Белозвёздная набережная (Уайт-стар), но Рю Сен-Жак».
Очевидно, что Рю Сен-Жак – это французский номен, выбивающийся ровно так же из английского текста, как выбивается он из русского.
5) «Избыточная наукообразность», «реабилитирующая тень»
Наукообразность – это конек Лавкрафта. Он пишет довольно специфически, он любит науку, современную ему (поэтому – «алиенисты», а не «психоаналитики»).
«Реабилитирующая тень» в оригинале – «restoring shadow», и на английском это звучит ровно так же (эквивалентно) специфично. Если не верите – попробуйте взять это выражение в кавычки и поискать в любом поисковике.
Результаты будут говорить красноречивее слов.
6) «расскажите мне о методике генеалогических опытов, пожалуйста»
Вам куда лучше расскажет закавыченный поиск – о том, что это вполне широко используемое научное понятие.
7) «…но „юродивый араб“?»
Технически Аль-Хазред именно юродивый. Смотрим в словарное определение этого слова: «Человек, отвергший все мирские ценности и ведущий аскетический образ жизни, обладающий мудростью, выражающейся во внешнем безумии; один из ликов святости». Это подходит Аль-Хазреду, каким мы его знаем по обрывочным, представленным о нем сведениям? Да, вполне. Все эти «сумасшедший» и «безумный» – весьма ленивая калька со слова «mad». «Mad» вообще довольно многозначно в английском и даже не всегда несет в себе негативно-оценочную характеристику, которую другие переводчики пытаются в этом месте зачем-то навязать.
8) жил в соответствующие годы в Рехоботе, Массачусетс. На кой чёрт было сочинять ему родину в Намибии, гугл ответить затруднился .
Я признаю за собой ошибку в позиционировании Рехобота не в Массачусетсе – он там действительно есть; случай сродни городку Санкт-Петербург в штате Флорида. Стыдный промах в географии родного края! Но гугл все-таки должен был подсказать, что Рехобот, регион в Намибии, также имеет вполне узнаваемое на русском название Бастерленд.
9) «Выходя за рамки препарируемого романа, не могу не пройтись хотя бы просто по названиям прочих рассказов: „Тайная напасть“, The Lurking Fear в девичестве, „Затаившийся страх/ужас“ в нашей традиции; „Йигов сглаз“ – The Curse of Yig, „Проклятие Йига“. Ощутили разницу?)) Неведомое зло в новом переводе последовательно превращается в старушечье ворчание. „Девку-то того, змей сглазил, вот напасть-то“».
Ну, во-первых, проходиться «просто по названиям» очень непрофессионально, нужно всегда смотреть текст – иногда названия вешает редактор; но тут, честно, другой случай. Во-вторых, «…в нашей традиции» – о какой традиции речь, о традиции плохих переводов Лавкрафта из девяностых? О да, таковая, несомненно, имеется, и вполне допускает следующее (привет, «Ночной океан»):
«I swam until the afternoon had gone, and later, having rested, walked into the little town. Darkness hid the sea from me as I entered, and I found in the dingy lights of the streets tokens of a life which was not even conscious of the great, gloom-shrouded thing lying so close».
Это Лавкрафт в соавторстве со своим преданным последователем Робертом Барлоу. А ниже у нас – классический, традиционный перевод Е. Мусихина (в издании «Азбуки» в т.ч.):
«Боже, каким наслаждением показалось мне в тот день купание в ласковых океанских волнах! Вдоволь наплававшись и выбравшись из воды, когда день уже клонился к закату, я вернулся в дом, немного отдохнул и отправился в поселок, куда прибыл уже затемно. И здесь, в тусклом свете уличных фонарей, я с неприятным для себя удивлением обнаружил признаки скучной и убогой жизни, которая никак не вязалась с близостью сокрытого сейчас во мраке ночи великого порождения Творца…»
Talking about «переводческая дерзость». Ну и да, к случаю со «страхом» и «ужасом». В английском языке fear вполне может быть использовано как понятие, обозначающе человеческую эмоцию, и одновременно как обобщающее существительное для источника страха, того, что этот страх насылает. В русском языке, увы, такое же коленце провернуть не выйдет (если мы говорим о грамотном литературном русском, за каковой радеет автор критической статьи). «Мы шли на гору, где обитал страх», «страх бушевал здесь, убивая…» – это все, конечно, круто (если речь идет о кальке), но едва ли отражает суть – описывается явление, а не эмоция. И в этом плане «Тайная напасть» (семейку Мартинсов Лавкрафт еще и с болезнью сравнивает в тексте) видится мне нормальным, адекватным как оригиналу, так и правилам несчастного русского языка вариантом.
В случае с «Проклятьем Йига». «Девку-то того, змей сглазил, вот напасть-то». Пардон э муа, но Вы рассказ-то читали? Там именно об этом. Девку реально змей сглазил, девка реально превратилась в куцее подобие себя с облезшими волосами и пустым рептильным взглядом. Никакое «проклятие» не довлело над ее родом, не преследовало потомков – здесь налицо точечная паранормальная месть. Да даже с точки фонетики – «curse-of-Yig» (три слога), «Йи-гов-сглаз» (три слога) звучит лучше, чем это злосчастное избитое «проклятие», насажденное как дурная «традиция». Не убеждает подход? Но ведь «Дневник Алонсо Тайпера» в моем переводе – это «Дневник Алонсо Тайпера», «Ужас Данвича» – все тот же «Ужас Данвича». Я не отклоняюсь от «традиции» там, где все сделано правильно. Здесь же все, очевидно, было сделано плохо и требовало вдумчивого подхода. Уверен, Лавкрафт его заслуживает. Забавно, кстати, слушать упреки в плохом литературном русском от критиков, для которых «сглаз» и «напасть» – это «непозволительные русизмы». Talking about двойные стандарты.
Покамест все.