О вреде языковых игр
Тагир Хабибулин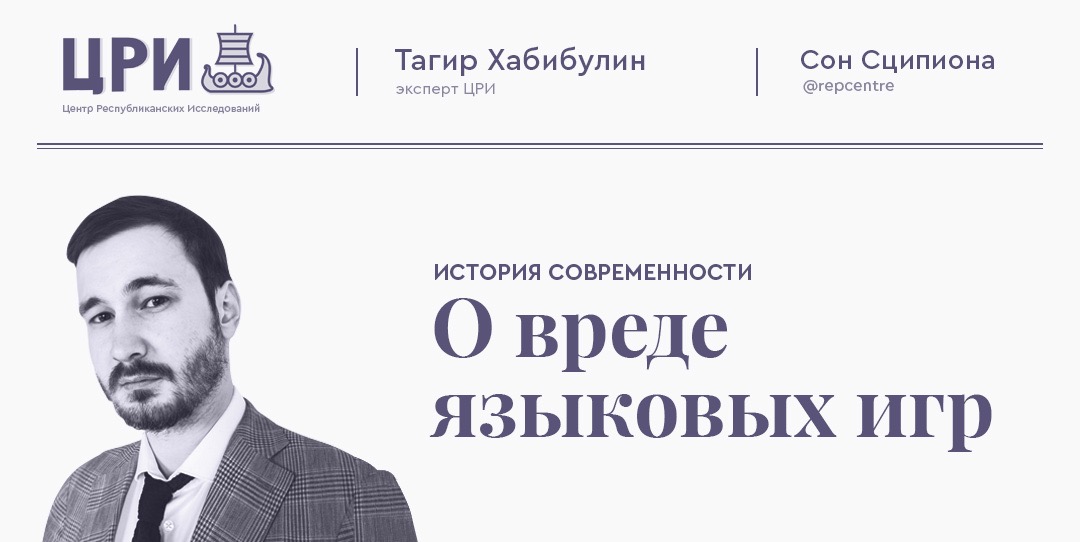
Человек – существо не только политическое, но и говорящее. И эти две ипостаси тесно связаны между собой. Политика и право существуют внутри языка, то есть политические и правовые идеалы есть лишь языковая модель, изображающая реальность такой, какой её хочет видеть человек. А все политические и правовые практики – попытка превратить желаемое в действительное. Уместность подобных попыток зависит от многих предпосылок, например, от того, кто формулирует идеалы или какими методами достигается единство двух миров: мира представлений о прекрасном и мира фактов.
Есть также и более глубокие вопросы, они касаются языка, на котором формулируются политические и правовые ориентиры.
Джорджо Агамбен в работе «Таинство языка. Археология клятвы» критикует современный язык как язык в принципе непригодный для политического общения. Его аргумент состоит в том, что человек, когда он использует язык, находится в рамках определенного «языкового опыта», который определяет характер отношения языка и мира вещей. Для политического общения необходимо, чтобы язык в принципе мог влиять на мир вещей. Языковой опыт прошлого, с точки зрения Агамбена, тесно связан с фигурой Бога, которая и придавала надёжность человеческому высказыванию. В свете языка Бога, где нет зазора между словом и вещью («И сказал Бог: да будет свет. И стал свет»), человеческий язык обретает свою надёжность. Произнося клятву, человек связывает своё высказывание с реальностью, делая его достоверным. Именно поэтому Агамбен называет клятву предтечей права.
В современности, которая называет себя секулярной, фигура Бога утратила свой авторитет, и, соответственно, языковой опыт человека трансформировался, изменив вслед за собой политику и право. Можем ли мы сравнивать предвыборное обещание и клятву? Подчиняемся ли мы бесчисленным правовым предписаниям исключительно потому, что желаем видеть перед собой ту картину прекрасного мира, которую нам рисует право?
В арсенале языковых средств, который предоставляет нам наш скудный языковой опыт, остается не так уж много инструментов для подлинно политического общения. Возьмем для примера цицероновское определение: республика – это «достояние народа, а народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов». Едва ли это согласие в вопросах права и общность интересов можно трактовать как простое «да» в ответ на привлекательное описание желанного порядка. Согласие здесь означает, что каждый гражданин республики может артикулировать то, каким он хочет видеть политическое устройство, понимает, как добиться желаемого, и, что главное, способен вступить в политическое общение по этому поводу со своими единомышленниками. Все это требует особого языка и особого к нему отношения.
Вспомним Данте и его работу «О народном красноречии», которая, если её воспринимать как политический трактат, сейчас значительно более злободневна, чем более известный его труд «Монархия». Прославленный флорентиец, рассуждая о народной речи, называет её «знатнейшей», поскольку она объединяет всех людей и, в противовес речи грамотной, является естественной.
При этом для Данте народная речь – это не всякая речь, но речь блистательная, осевая, придворная и правильная. Блистательной она является, поскольку возвышает и придает блеск остальному. Осевой – поскольку объединяет все и является основой всего. Придворной – оттого, что её используют при дворе и в судах. (Здесь Данте в свойственной ему манере делает причудливый интеллектуальный ход: коль скоро всеобщего италийского двора не существует, его место занимает разум: «Ибо, пусть и нет в Италии единого всеобщего правительства, подобного правительству Германии, в членах его, однако, нет недостатка; и как члены упомянутого правительства объединяются единым государем, так членов нашего объединяет благодатный светоч разума»). Правильной же народная речь является оттого, что прошла апробацию при дворе и в судах и показала себя достойной звучать в столь высоких местах.
Во всём этом важно то, какие высокие требования Данте предъявляет к народной речи. Он не готов назвать народной любую речь – важно, чтобы речь и народ, который её использует, были одинаково достойны. Особенно явно эта идея звучит, когда Данте пишет о родной Тоскане:
«Если мы исследуем тосканские говоры и взвесим, в какой степени высокочтимые люди отклонились от своего собственного, не остается сомнений, что искомая нами народная речь не та, какой держится тосканский народ».
Или:
«Но хотя все почти тосканцы и коснеют в своем гнусноязычии, мы знаем, что некоторые из них постигли высоту народной речи, а именно флорентийцы Гвидо, Лапо и еще один, да и Чино да Пистойя…»
И еще про естественность народной речи. Данте не отрицает роли конвенции в языке, но настаивает на том, что в языке есть нечто осевое, что предшествует языковым конвенциям. Этот аргумент является важным с политической точки зрения, ведь если мы будем сводить любые высказывания к «языковой игре», то в один прекрасный день мы потеряем нашу культуру, нашу цивилизацию и нашу способность к общению.