Нюхает трусы сестры чаще чем кокаин
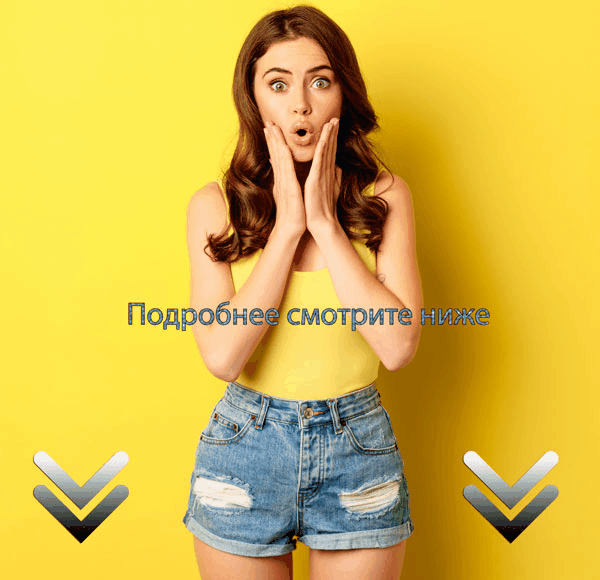
Нюхает трусы сестры чаще чем кокаин
Нюхает кокаин порно ролики HD
Релевантные
Популярные
Топовые
Блистательному психоделическому путешественнику,
профессору Гарвардского Университета, математику и воину,
старшему кетамин–мастеру – Владимиру А. Воеводскому
посвящает эту книгу автор.
«Наркотики – рай на земле!»
Граффити.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОИСКАХ ИСТИННОЙ ЖИВОСТИ...
–I–
Я очень люблю колоться кетамином. Но подозреваю, что теперь кетамин мне попадается все больше фальшивый. Нет, и колюсь я, как обычно – в вену, и реальность изменяется, и время с пространством падают крест-накрест друг на друга, но вот радости... Радости – никакой. Нету теперь сладкой булочки в самом конце, когда возвращаешься в постылый мир... Нет сладкой булочки, которую уже успел надкусить и бережливо положил на шкаф, куда коту нипочем не запрыгнуть; и мечтал доесть эту булочку, сполна насладиться ее сладостью потом, чуть позже. И не вышло... С****или булочку. И, конечно, не кот – не запрыгнуть ему, разжиревшему и опоенному валерьянкой, словно коммерческий директор – коньяком, на высокий шкаф. Да и зачем коту сладкое. А вот мне нужно, необходимо сладенькое. Мне нужно поддерживать силы, мне надо, чтобы мозг работал.
Я ведь ничего особенного не хочу. Я просто хочу рассказать одним людям о том, как живут другие люди. Может статься, это поможет им любить друг друга. А может быть, это и не поможет никому. Потому что вот, например, я – старый человек, я жизнь прожил. "Я знаю жизнь, я – тусовалась" – как говорила поэтесса Петрова. А сопляк, который у меня булочку с****ил, у него всех событий в жизни было – что он два раза подряд обоссался двадцать лет назад. Ну, и как нам понять друг друга?
А ведь самое, слышь, гадство-то в том, что булочка сладкая была, а старому человеку для мозга сахар очень нужен; а какой-то гад не хочет этого осознавать... Ну, как нам тут понять друг друга?
Вот просыпаюсь я с утра, и сразу на балкон – проверить градусник. Что там у нас – взаправду осень, или так, опять Профессор чудит?
По дороге надо еще сообщить коту новости. Например, по новому уголовному кодексу (а его я в связи с военным положением – война Катманду объявлена еще с прошлого четверга – меняю ежедневно) кража пескаря – статья подрасстрельная. Ну, еще то–се.
И не надо пить столько валерьянки! Это вредно для здоровья.
Когда-то мне нравились деньги, но я не бизнесмен. Деньги мне нравились только потому, что их меняли на пиво.
Деньги мне нравились, но не очень. Их меняли на пиво по хреновому курсу.
Теперь мне нравится кетамин. Очень. Но булочку с****или, и похоже – бесповоротно.
А булочку жа-алко. Вот раньше, особенно если денег до ***, тогда – пожалуйста, хоть зажрись этими булочками. Хоть подавись ими. Хоть в штабель складывай углом, чтобы было куда поссать, как собаке, на старости лет.
А Профессор со мной всегда булочкой делился.
Я помню, как мы сидели в лодочке. Плыли по Москва–реке. Наша лодочка – корабль психоделической революции, гордый буревестник, ботик наш, уплывающий в европейское окно, наша "Ципа-Дрипа" – гордо резала волну острым форштевнем.
Мне в этой стране, что жить, что помереть – все плохо. В этой стороне. А с другой стороны – тоже был берег.
И мы вышли на пологий гранитный берег, и встали зорко, поставив нашу лодочку весьма ровно. И подошли к нам некоторые, называемые народом, и сильно изумлялись, и хотели дать нам ****юлей или по морде.
Это были крутые ребята. Они хотели познать истину. Им просто не терпелось сожрать нашу булочку. Они неприлично смотрели на нашу Белую Деву.
– Будет вам олимпиада, и хрен с маслом тоже будет, – сказал Профессор, опуская металлический зуб от бороны на голову ближнего.
Профессор в тот день был весел. Как песня про черного ворона.
У меня во внутреннем кармане задумчиво побулькивала клепсидра – джин капал в тоник.
Кетамин капал в релашечку.
А чаек – в чашечку.
Чтобы располагать временем в своих интересах, его надо знать – поэтому без клепсидры я вообще никуда не выхожу.
Время мало знать – его нужно любить. Клепсидра похожа на девочку.
У песочных часов тоже осиная талия. Но песок должен остаться на дне, под прохладными водами.
Песок сух, как женщина, которая не хочет.
Вода уносит. Песок хоронит.
Вода тягуча, под ней скрывается дно. Песок зыбок, и дна у него нет.
Клепсидра похожа на шприц, а шприц похож на член.
Хороший роман должен иметь прочное основание. Автору необходима точка опоры, нулевая координата, то самое слово, которое "было вначале". Пышному древу прозы должно иметь надежную почву и разветвленную корневую систему. Взращивать его нужно осторожно и постепенно.
Поэтому все пристойные романы во все времена – до того как наступили времена вовсе непристойные – начинались если и не с момента зачатия (стерновский "Тристрам"), то уж с момента рождения героя. На худой конец, начало романа должно совпадать с началом новой жизни героя. И особой витальной силой отличаются книги, описывающие посмертное существование...
–II–
Я нажал на поршень, и моя жизнь началась – трепещущим призраком, поскрипывая паркетом на лунной дорожке, в комнату вошел Профессор. Он двигался легкой танцующей походкой. Отточенным движением адреналиновой иглы в замершем сердце полутрупа. Под мышкой у него был чемодан с кетамином.
В ту пору я жил на улице Народного Ополчения в квартире одной худенькой меценатки, дочери маршала кавалерии, и в тот вечер лег спать, дочитав книгу с очень длинным названием – "Девственный закат в Вирджинии, или о некоторых особенностях образного строя и лексики в прозе миссис Вульф".
Впрочем, может быть, это была книга с названием еще длиннее: «В. Пелевин, В. Ерофеев и другие тексты. Опыт сравнительного литературоведческого анализа при помощи психоделиков».
Я только что ширнулся кетамином с релашечкой и возлежал на широкой, как донская степь, кровати покойного маршала, прижимая к сердцу парадную шашку старого вояки, а по узкой лунной дорожке от балкона танцующей походкой висельника ко мне шел Профессор. На нем был длинный черный сюртук. За руку Профессор вел Белую Деву.
Впоследствии выяснилось, что кто-то из них в тот вечер был призраком.
– Скорее на Яузу, брат мой! Встань и иди на Яузу! – сказал Профессор громовым голосом.
– И тогда у нас будет все! И даже дом на берегу! – подхватил я, вскакивая с кровати.
– Витек прилетел, – прошелестела Белая Дева.
И впрямь, задумчиво шурша крыльями, по комнате пролетел добрый витек. Я-то быстро научился отличать доброго витька от злого. А не всем это дано, определенно не всем. Мне-то старому человеку с атрофирующимся от водянки мозгом многое такое понятно, до чего нынешним соплякам никогда не допереть.
– Ура! – закричал я специальным диким голосом.
– Ура! – закричали специальными дикими голосами Профессор и Белая Дева.
Мы наскоро обнялись и выбежали через открытую балконную дверь на улицу. Парадную кавалерийскую шашку я на всякий случай прихватил с собой.
– Даешь Перекоп и Варшаву! – заорал нам вослед со своего портрета маршал-кавалерист.
Одеваться мне было некогда и я бежал по улице Народного Ополчения в одних трусах. В левой руке я сжимал свой верный шприц, а правой – крутил шашку над головой, со свистом рассекая метавшихся над нашими головами сильфид. Сильфиды жалобно стонали. Вокруг них, словно мотыльки, хихикая, вились витьки.
Спереди в трусах у меня мелодично позвякивало. Это звенели ампулы и фуфырьки. Кроме как в семейные до колен трусы засунуть их мне было некуда. По заду меня хлопал тяжелый потемневший от древности Николай-Угодник.
На книжной полке у меценатки стоял толстый костяной Будда, а рядом с ним – эта икона. Буддизм и православие недолго боролись за мою душу. Победило православие, и я позаимствовал у меценатки Николая Мирликийского.
Его я тоже засунул в трусы. Я ведь вам не мудозвон молодежный, я – солидный старый человек... Ну и что, что у меня булочку с****или? Ничего это не значит.
Профессор большими жадными прыжками бежал справа от меня, изредка бросая опасливые взгляды на рубившую сильфид шашку.
Направление Профессор держал, сверяясь с показаниями огромного двадцатикубового шприца. Его проржавевшая, но заранее намагниченная игла с успехом заменяла стрелку компаса. Я в который раз изумился исключительной предусмотрительности моего высокоученого друга.
Белая Дева бежала, безвольно опустив перетянутые жгутами руки. Во вздувшиеся вены были воткнуты шприцы. В левой руке – уже пустой, в правой – заряженный. В заряженном шприце по кетаминовым закоулкам уже гулял тонкий ручеек контроля.
На улице Народного Ополчения было безлюдно. Душный июльский воздух был наполнен жаркой тревогой.
– Который час? – задыхаясь от бега, спросил я Профессора.
Профессор залез в нагрудный карман и вынул двухкубовый хронометр. Тоненькая инсулинка, ярко блестя в дрожащем свете звезд, показывала три децила четвертого.
За спиной у нас послышалось мурлыканье.
– Кошка, – прохрипел я.
– Канарейка, – оглянувшись на бегу, мрачно возразил Профессор.
Я тоже кинул взгляд через плечо: плавно скользя вдоль противоположного тротуара, нас догоняла милицейская белая "канарейка" марки "форд". В ее железном брюхе, под капотом, печально мурлыкала проглоченная на завтрак кошка.
Мы с Профессором застыли в раздумье. Белой Деве было все равно, но увидев, что мы остановились, она тоже затопталась на месте. На лице у Белой Девы плавала бессмысленная, от уха до уха – улыбка. Сильфиды и витьки поднялись повыше и с интересом наблюдали за происходящим. Стонать и хихикать они перестали, а я перестал размахивать шашкой.
"Канарейка"-альбинос протяжно мяукнула тормозами, и, поравнявшись с нами, замерла на другой стороне улицы под тускло светившим фонарем. Внутри "канарейки", за тонированными стеклами салона, никакого движения заметно не было. Только под капотом продолжала мурлыкать кошка.
"Канарейка" мигнула фарами, откашлялась и заорала через дорогу дурным мегафонным голосом:
– Эй, на той стороне, в трусах...
Тут, на самом интересном месте, "канарейка" захрипела и умолкла.
Мы стояли, прислушиваясь. Лязгнула дверца, и на мостовую
вылез мент – в бронежилете и с автоматом.
Сделав пару шагов к нам, он вдруг повернулся и, надсаживаясь, заорал напарнику, оставшемуся в машине:
– Ни *** себе, Андрюха! Это ж наркоманы! Голые и вооруженные!
Мент разглядел профессорский шприц–компас, мою шашку и руки Белой Девы.
Я взмахнул шашкой, вскочил на спину Белой Деве и пустил ее галопом в кавалерийскую атаку на мента.
– Андрюха! – заорал он, отступая и бешено дергая автоматные железки, – вызывай подмогу! Они, сука, агрессивные!
Мент прижался спиной к фонарному столбу и выпустил очередь мне в живот. Но промахнулся. Тогда он выстрелил мне в голову. И попал. Но автоматная очередь в голову не причинила мне никакого вреда.
Увидев это, мент испугался и перестал стрелять.
Белая Дева, тяжело дыша, скакала вокруг него, а я рубил мента шашкой. Он отмахивался стволом автомата.
Профессор ловко примостил невесть откуда взявшийся шприц–миномет на ржавый зуб от бороны – вместо треноги, и, плавно шебурша поршнем, методично обстреливал "канарейку".
Мент Андрюха, сидевший в ней, не мог прийти на помощь напарнику.
– Андрюха, вызывай танки! – завопил мой мент.
Через некоторое время мы и впрямь услышали натужный рев моторов и лязг гусеничных траков. Дергая запыленными хоботами в разные стороны, с бульвара Маршала Жукова на улицу Народного Ополчения выруливали чадящие керосинки танков.
Танки входили в Вену. И внутривенно накатывались на действительность.
Сильфиды над нашими головами снова жалобно захныкали. Испугались, что попадутся под горячий танкистский хобот. Витьки снова захихикали.
"Канарейка" прокашлялась и злорадно чирикнула андрюхиным мегафонным голосом:
– Ну все, ****ец вам теперь, наркоманы злоебучие!
– Пошли на фиг! – специальным голосом крикнул Профессор, взлетая. И мы с Белой Девой перестали рубить мента, я спрыгнул с ее костлявой спины, и мы следом за Профессором взмыли в воздух, и все вместе полетели с неописуемой скоростью.
Сильфиды тут же захныкали громче и принялись виться вокруг нас, пытаясь сорвать поцелуй с наших уст. Но я снова начал размахивать шашкой и весьма успешно отбивался от хнычущих сильфид до тех пор, покуда они не отстали.
Через полкубика – по профессорскому хронометру – мы были на берегу великой Яузы.
–III–
Можно начать и по-другому. Вот, например, как начала свой документальный роман – книгу с изящным названием "Автобиография", а на самом деле, одну из лучших моих посмертных биографий, – mrs. Olga Pittis – тонкий исследователь моего торчества:
«Н.Б. родился на рассвете в пять часов очень холодного утра пятого апреля 1965 года. Произошло это в родильном доме им. Н.К. Крупской – женщины бездетной и детей не любившей – на 2-ой Тверской улице в столице моей бывшей родины – СССР.
... На соседней – Третьей Тверской, под окнами комнаты, где Н.Б. был зачат, рос тополь. По тополю вверх-вниз лазил родительский кот.
... Желающие кропотливо взрастить генеалогическое древо Н.Б могут заглянуть на соответствующий сайт и взять из рук самого Н.Б. саженец означенного древа – маленький чертеж шариковой ручкой на клетчатом тетрадном листке. Фотокопия, конечно, к тому же – плохо отсканированная.
... Прошло два года, и умер дед – чудесный Иван Васильевич. Символом родительского брака был, разумеется, не кот, символом было супружеское ложе – две раскладушки, связанные папашиным галстуком. И под покровом зимней темноты, под сурдинку похоронного марша все разъехалось, расползлось... Узел развязался. Кончилась семья, кончилась квартира на Третьей Тверской. Мать с отцом расстались навсегда.
В осиротевшей после смерти деда квартире ни мать ни бабушка жить не смогли. Разъехались.
Первым из череды мест, где нашему герою удавалось подцепить время за жилистое гнилое ребро, – стала для Н.Б. большая комната в начале бесконечного извилистого коридора коммунальной квартиры на Солянке. Там он впервые, еще с ученической старательностью, взвесил минуту и пядь на самодельных весах сочиненных с помощью детской магии из паркетной доски и громкоговорителя.
Сам Н.Б писал: «Я впервые себя помню – на темном, натертом до блеска паркетном полу в огромной комнате ( так и хочется написать – в двухсветной зале). Бормочет что-то допотопная черная тарелка радиоточки, и от этого радиоголоса я узнаю, что сейчас (тогда) – 1968 год. Так я впервые понял место и время».
... Игры в пиратов в комнатке соседки – графини Любови Васильевны Строгановой. В комнатке, где были настоящий барометр и одноглазый, времен Германской, старинный бинокль, годный разве что Кутузову и Нельсону. Каютой капитана уютно служил резной диванчик тех лет, когда и впрямь моря еще бороздили флибустьеры.
Над диванчиком висел дагерротип – Л. В. Строганова верхом в амазонке, посреди крымского ботанического гардена. Повсюду лилии да лианы – словно в джунглях Амазонки.
Игры в пиратов пробивались в мир через полный головастиков и пираний аквариум – линзу телевизора КВН, имени клуба кинопутешествий.
В одноглазый бинокль был виден памятник им. Колумба – крутобокая каравелла, кленовым листом плывущая по лужам у обожженной крематорием стены Донского монастыря.
... Из бесконечного путешествия между Солянкой и Марьинской на кожаных диванчиках горбатого 98 автобуса детство переместилось в окончательную ночлежку Хитрова рынка.
Подколокольный переулок – часть Солянки, левый ее рукав, если идти по направлению к Яузе.
... Ревущего мальчика тащили утром вверх по «горке» – улица Архипова – к синагоге (слева). А кареглазый и горбоносый мальчик громко картавил:
– Рради Господа нашего Иисуса Хрриста, не води меня туда, мама!
Богобоязненные старушки, видя малолетнего христианского мученика новейшего времени, крестились и ругали «жидовкой» зеленоглазую и курносую мать... Но синагога оставалась слева и чуть позади, а чуть вперед и направо был ненавистный ведомственный детский сад КГБ.
... А какая замечательная газировка была в находившихся под сильным влиянием чекистской планеты Сатурн автоматах 49 гастронома, который был лучшим подвалом Лубянки.
... Много читали и даже писали. Что-то сжигали – нелегальщину или стихи. Играли в рояль джаз и вели разговоры под красное болгарское каберне и пузатую оплетенную «Гамзу» – Н.Б. всегда говорил: «Гымза». Но какая ж она грымза, так – добродушная и теплая, как все толстушки.
Когда наскучивало играть в рояль, слушали первобытный магнитофон «Дайна», лихо крутивший шуршащими колечками рычащего Брассанса.
Слушали еще проигрыватель «Молодежный» – коричневый, кожаный и с дырочками чемоданчик. Из дырочек – пели Джоан Баэз или Элла Фитцжеральд.
Жизнь пахла индийским чаем «со слоном», папиросами «Беломор» и «Север».
На кухне часто были ромштекс и антрекот в компании голубцов и борща. Из рыбы – запеченная треска и жареная камбала.
Были открыты окна, была сильная летняя гроза.
Все свое время он прожил – куда жизнь занесет.»
Впрочем, и "Автобиография", и ее герои, да и сама миссис Питтис – не более чем спелые плоды кетаминового дерева моего горячечного воображения. И пользуясь случаем, я хотел бы передать горячий и пламенный привет всем им – моей любящей мамочке, троюродному брату Васе, покойному прадедушке-академику, тете Маше из Бобруйска, и глубокоуважаемому папаше. А главное – Леониду Якубовичу.
И отдельный привет – Оленьке Косоруковой-Питтис из штата Нью-Мексико.
– IV –
Все эти приветы я передавал, стоя на гранитном берегу великой Яузы.
От двадцать восьмого почтового отделения под Астаховским мостом сильно пахло сургучом, от винного магазина в Николоямском переулке тянуло кислым запахом мадеры. У овощного, на высокой арбузной пирамиде сидел, покачиваясь в такт собственной заунывной песне, бессонный мусульманин.
Такая она была – песочница бытия.
Но мы припали жадными психоделическими хоботками к тонкой и хрупкой артерии Яузы. Черная, маслянистая, пахнущая кровью вода важно текла в предрассветной мгле, поблескивая отражениями фонарей.
Хищная быстроходная лодка с узкими, словно губы стервы, обводами, высоким острым форштевнем и стройной мачтой стояла у наших ног. Лодка была привязана крепкой конопляной веревкой к позеленевшему от воды и времени бронзовому кольцу, вмурованному в серый гранит набережной.
"Ципа-Дрипа" было выведено белой краской на высоком просмоленном борту нашей гордой коллективной галлюцинации.
– Righto boat! – сказал Профессор и осторожно поставил чемодан с кетамином на холодный и твердый гранит набережной.
– Законная лодка, – механически прошелестела перевод Белая Дева.
– Вот именно, – сказал Профессор, доставая из кармана своего черного сюртука два ржавых десятидюймовых гвоздя и плотницкий топорик на длинной рукояти.
Оскальзываясь на зеленых прядях водорослей, Профессор спустился по гранитным ступеням к воде.
– Иди сюда, – поманил он грязным худым пальцем Белую Деву.
Белая Дева подошла к лодке. Профессор крепко взял ее под мышки и, опустив в воду, приладил спиной к форштевню.
Один гвоздь он вбил в чрево ее. Другой – в сердце ее.
Белая Дева радостно смеялась беззвучным смехом, широко открывая рот.
Профессор взошел в лодку и грозно оглянулся.
– Отчаливай, – приказал он и протянул мне топорик.
Я перерубил конопляную веревку и, оттолкнув "Ципу-Дрипу" от гранитного причала, ловко прыгнул на корму.
Профессор уже возился там, налаживая лодочный мотор – шприц-водомет внушительных размеров.
Я подошел к хохочущей Белой Деве и, взяв легкое весло, стал помогать медленно увлекавшему нас в
Старушка с пирсингом на пизде облизывает пенис
Моя мамка разбудила меня чтобы заснять как она отсасывает мне
Лучше б ты еблась с Иваном чем сношалась с черным хамом