Неплохая пошлячка с телеграм
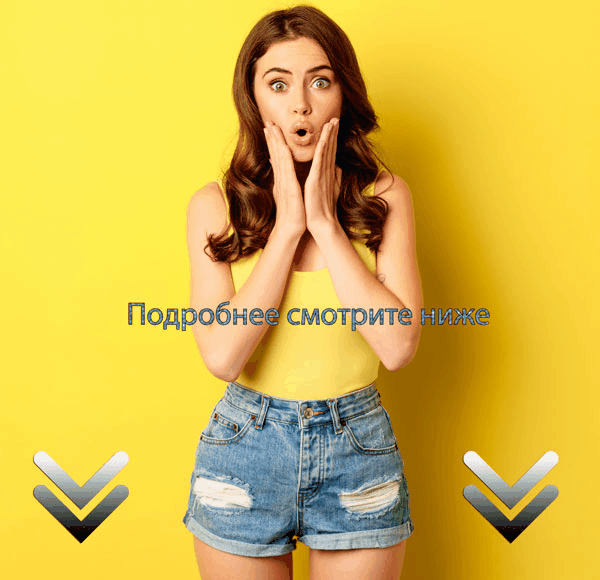
Неплохая пошлячка с телеграм
Было время надежды и веры большой...
Александр Блок
Истинный художник-тот, кто умеет быть
самим собой, возвыситься до независимости.
Михаил Нестеров
...Вокруг шумела жизнь, звенели капелью
синие весны. Мы любили, страдали; проводили
бессонные ночи в спорах, жадно проглатывали
книги, много ездили по стране, делая для себя
захватывающие дух открытия, которые потрясали
нас всей противоречивой сложностью
человеческого бытия и наглядно убеждали в
справедливости слов Достоевского — нет ничего
фантастичнее реальности. Жизнь опровергала то,
чему нас учили на лекциях по диалектическому
материализму. Жизнь не отражалась в большинстве
картин наших художников.
Как это время отражалось в моей душе?
В Академии все было по-прежнему. Шли 50-е
годы. Первокурсники рисовали гипсы,
старшекурсники — обнаженную модель, дипломники
компоновали композиции в соответствии с
выбранной темой. Предполагалось, что у художника
не всегда хватает собственной фантазии и
творческих замыслов, и потому дипломникам и даже
студентам давали “темник”, который
предназначался главным образом для больших
союзных выставок. Этот “темник”, по мнению
нашего начальства, мог оказать и оказывал
неоценимую услугу как в выборе сюжета, так и в его
разработке. “Темник” охватывал самые разные
стороны жизни нашей страны, где были и такие,
например, темы, как “Прибавил в весе”. Имелся в
виду человек, вернувшийся из санатория, который
после отдыха, взвесившись на медицинских весах,
обнаружил, что он прибавил в весе к великой
радости окружающих.
Всякая ложь должна быть
правдоподобной. Как известно, Чернышевский, о чем
я уже говорил, считал, что прекрасное есть жизнь.
Слепок жизни — это фотография. Итак: реализм
фотонатуралистический, а содержание
социалистическое.
В библиотеке студентам стали давать
монографии Ренуара, Дега и Моне. В Эрмитаже
говорили о новой расширенной экспозиции
искусства нового времени; в Русском музее
вывесили Врубеля и Коровина; говорили, что выйдет
скоро полное собрание сочинений Достоевского... И
вот, наконец, в Эрмитаже открылась выставка
Пикассо, монографии с репродукциями которого до
этого времени считались чуть ли не подпольной
литературой. И вот сейчас Пикассо показался
многим “голым королем”, скрывающим свою
несостоятельность за холодными ребусами
выдумок, выдаваемых за свободу индивидуальности.
Яростная жажда разрушения духовных и
эстетических ценностей, — с которой Пикассо
выступил в начале века, произвела впечатление на
некоторую часть его современников, склонных
видеть в нем зачинателя нового направления.
Лично мне всегда казалось, что разрушение не
может служить основой искусства, так как
искусство есть созидание. Поэтому Пикассо не
новое слово в культуре, а разрушение старого. Мне
нравится у Пикассо его так называемый “голубой
период”, а особенно лучшая вещь этого периода
“Странствующие акробаты”, проникнутая большой
гуманностью и грустью. Люди, как две больные
птицы, прижавшись друг к другу, смотрят с
невыразимым чувством тоски и опустошенного
одиночества. В западном искусстве ХХ века это,
может быть, одна из самых сильных вещей.
Но та выставка в Эрмитаже не показала
нам ничего, кроме свободы выдумки и пустого
трюкачества. А ведь мы ждали новых пророческих
слов, могущих помочь нам найти ответы на мучившие
вопросы современности!
Некоторые, исполненные естественного
чувства протеста, приветствовали выставку
Пикассо, видя в ней вызов искусству периода
“культа личности”. Уходя с третьего этажа
Эрмитажа; спускаясь вниз по скрипучей лестнице, к
сентиментальному Грезу и изысканно-грустным
пасторалям Ватто, я думал, что искусство распада,
уйдя от человека, от его внутреннего мира,
творчески воплощаемого в конкретных формах
объективно существующей вокруг нас реальности,
завело многих современных художников в тупик и
открыло дорогу фальсификаторам несостоявшейся
индивидуальности. Думалось о курсе на понижение
духовных ценностей в современной культуре ХХ
века, когда художественный мыслеобраз в живописи
заменяется произволом случайных пятен или
раскрашенной фотографией, мелодия вытесняется
ритмом или “конкретной” музыкой и т.д.
Некоторые мои старшие товарищи очень
быстро и энергично овладели формой, становясь,
как у нас говорили, “мастерюгами”. К ним
принадлежали в первую очередь те, путеводной
звездой которых были старые мастера. Используя
музыкальный строй классической композиции,
“мастерюги” подчас насиловали ее в угоду
современной теме. Впечатление получалось такое
же, как от певца, который, не зная языка, имитирует
его созвучия. Формальное правдоподобие таких
картин более всего напоминало финал оперы или
“немую сцену”, где все персонажи замерли в
мертвых патетических позах, являясь, по сути,
карикатурами на живую жизнь.
Но все же эти картины выгодно
отличались от огромных, словно любительских
фотографий, исполненных на холсте масляными
красками. Если б это была действительно
художественная фотография с живой, трепетной
реальной фиксацией неповторимой красоты,
непридуманной случайности, всего, что делает
фотографию одним из художественных явлений ХХ
века! Глядя же на эти картины, казалось, что
художник, припудрив и прихорошив натурщиков,
делал с них снимок, а потом переносил это на
холст, композиция складывалась почти всегда из
ранее известных “социальных” компонентов, где
обязательными были старый рабочий с
моржеподобными усами, который сквозь сползшие на
нос очки ласково, лукаво, но взыскующе смотрит на
молодых специалистов, чаще всего горящих
энтузиазмом ремесленников, одетых в чистенькие
новые синие формы. Тот же дед, но в одежде,
приспособленной к условиям сельской местности,
балагурил с норовящими пуститься в пляс
розовощекими девками. Некоторые из них,
разодетые в невиданные национальные костюмы,
радовались на других картинах по поводу
получения заслуженной награды. Те же девчата
торжественно и величественно, как на параде, шли
на покос или, исступленно хохоча, грузили весьма
тяжелые мешки с зерном или невиданно огромные
кочаны капусты. Но, конечно,. наряду с триумфами и
праздниками в колхозе была тема лирического
отдыха, когда в крепдешиновых платьях и
кокетливых платочках те же девушки, поддавшиеся
чарам встающего над стогами и силосной башней
месяца, задумчиво грустили, очевидно, по поводу
того, что лихой гармонист с медалью вот-вот уедет
в институт...
Шли месяцы, на наших выставках уже не
было огромных массовок парадного ликования. Уже
было провозглашено, что нам нужны
Салтыковы-Щедрины и Гоголи. От искусства
потребовали “конфликта”. Как же понимался этот
конфликт? На деле это был обывательский,
мещанский конфликт, ограниченный рамками жэка:
сорванец мальчишка, разбивший стекло, не
выучивший урок школьник и т.п. На выставках
появились: “Таня, не моргай”, “Родное дитя на
периферию”, “Разоблачили бракодела”, “На
школьном вечере” и другие. Мелкое зубоскальтво
подменяло подлинный драматизм.
И все-таки я хочу еще раз сказать о
величайшем положительном значении Академии как
школы, противопоставившей наследие системы
Чистякова — с его высоким пониманием трудного
пути освоения и передачи на холсте природы, с его
постижением законов формы объективного мира,
воплощением в композиции творческого замысла —
нигилистической разнузданности 20-х и 30-х годов.
Именно тогда античными статуями мостили дворы и
разрезали на этюды студентам гениальное панно
Рериха “Битва при Керженце”, а натурщику
платили не за то, что он позировал ученикам, а за
то, что он ритмично двигал качели со стоящими на
них натюрмортами. Ученики, не умеющие нарисовать
простого горшка, должны были написать композицию
“Ритм движения”.
Чистяков с его твердой системой
познания природы, как известно, считал, что
познание лишь необходимый фундамент, без
.которого не может развиваться в искусстве
неповторимая индивидуальность художника.
Неслучайно его учениками были люди, определившие
лицо русского искусства на рубеже XIX-ХХ веков, —
Суриков, Серов, Врубель, Васнецов... Они навсегда
сохранили любовь к своему великому учителю,
давшему им ключ к тайнам профессионального
мастерства, без которого невозможно
индивидуальное самовыражение любого художника.
Великой школой рисунка отмечен также и наш XVIII
век.
Конечно, в послевоенной Академии, при
всех ее положительных сторонах, бытовали и
некоторые недостатки, присущие старой Академии,
против которой бунтовали еще передвижники. Она,
безусловно, давала прекрасную школу, однако
несколько стесняла рамки творчества художников,
предлагая изображать преимущественно мир
мифологических героев, не имеющий ничего общего
с окружающей русской жизнью, Отчего, как я выше
говорил, и произошел знаменитый “бунт
четырнадцати” во главе с Крамским. Послевоенная
Академия в известной мере тоже культивировала
штампы, сглаживающие шероховатости жизни, весьма
облегченно трактующие конфликты и
противоречия... То была ложь о жизни социальных
манекенов, “строителей светлого будущего”.
Академия считала своим долгом
“поправлять” натуру, саму жизнь, идеализируя ее,
игнорируя ту трудную, суровую жизненную правду,
которая бурлящим потоком врывалась в цитадель
Академии и обступала нас, как только мы покидали
ее стены. Я мучительно чувствовал всю пропасть,
которая разделяла эти два мира — придуманного
“типического” и “нетипически” реального,
вставшего огромным вопросом. Ответа я тогда не
мог найти. Жизнь неслась грохочущим экспрессом, а
я, словно связанный, безъязыкий и оглушенный
стуком колес, чувствовал всю ненужность своего
труда и бесплодную горячку поисков. Ну, попробуй
уразуметь, что означает догмат: “Национальное по
форме, социалистическое по содержанию”?.
В перерывах между лекциями, в столовой,
в общежитии у нас постоянно велись споры о
последних событиях в жизни и искусстве. Из
разговоров, от посещения выставок у меня
складывалось впечатление, что в нашей
художественной жизни наметились вполне
определенные тенденции. Вспоминаются четыре
спора, раскрывающие настроения и мысли моих
товарищей по Академии в те уже далекие 50-е...
Один мой товарищ по Академии, который
готовился в аспирантуру и всегда ходил в
выцветшей военной гимнастерке (хотя сам
непосредственно в боях и не участвовал), сказал
мне однажды:
— Да брось ты свою заумь. Пиши этюды,
выбери хорошую тему в предложенном списке,
покажи выставкому, может, проскочишь на
молодежную выставку. По-моему, все ясно: написал
картину — и жми дальше, вкалывай! Жизнь сама по
себе так богата! Думать не о чем — поезжай в
колхоз, на предприятие, на лесозаготовки, всюду
жизнь кипит, в ней столько революционных
преобразований! Отрази эту жизнь — вот тебе и
будет тема. Жизнь — вот наша тема. Машина по
асфальту проехала, дворник метет улицу — вот уже
жизнь. Умей ее видеть, а видеть это не просто.
Мудро сказал товарищ Маленков: типическое — это
не среднеарифметическое, а то, что должно быть.
Например, поедешь ты в колхоз, увидишь лошадь —
правильно, не всюду у нас есть еще трактора! Но...
они будут всюду, и потому ты, как художник, должен
увидеть трактор, а не лошадь. Раньше, конечно,
легче было: прочел темник, выбрал неизбитую тему,
решил по-своему — и порядок! Сейчас, сам знаешь,
темников нет, самому извилиной шевелить надо —
новое время наступило. Вот я видел твои работы,
которые ты с Волги привез, не нашел ты
типического, не теми глазами смотрел.
— Я делал, как видел в жизни, не думая —
типическое или нет.
— Вот это и плохо, надо выбирать из
действительности, не все же подряд писать! —
сказал он снисходительно. — Надо видеть то, что
будет, а не то, что есть.
Другой посоветовал мне писать о народе
и для народа. Крепкий, нарочито простоватый, он
сам казался мне одним из персонажей картин,
посвященных лесозаготовкам.
— Не будь гнилым интеллигентом, будь
ближе к народу, как Суриков, Репин, в народе вся
сила, народ ведь все понимает.
Я был совершенно согласен с ним, но
тотчас же мне пришла в голову мысль: ведь,
например, Врубель, Кустодиев, Рерих или Коровин
не писали бурлаков и косарей, но были глубоко
народными художниками. И разве они менее нужны
людям, чем Репин или Суриков? И разве не являются
они сами плоть от плоти народа, выразителями его
духовного самосознания?
— Кого ты подразумеваешь под понятием
“народ”? — спросил я.
— Ну, уж конечно, менее всего
интеллигентов.
— Но разве Пушкин, Достоевский, Блок,
Врубель Мусоргский, Бунин — не народ?
После некоторого колебания он
растерянно сказал:
Я порою замечал, что иногда люди,
постоянно упоминающие о своем
рабоче-крестьянском происхождении, очень далеки
от жизни, интересов и нужд тех самых “работяг” ,
на кровную связь с в которыми постоянно
ссылаются. Более того, мне довелось видеть, как
именно такие, “кость от кости”, смущенно прятали
от столичных гостей своих родителей, приехавших
из деревни или далекой провинции. В их постоянном
“народ”, “для народа” сквозило порой глубоко
запрятанное сознание своего превосходства над
этим самым народом. В своих картинах, говоря с
народом, такой художник как бы “снисходил”,
опускался на несколько ступеней ниже, чтобы быть
“понятнее и ближе” народу. И не замечал при этом
со своего мнимого пьедестала, в что в
действительности народ гораздо глубже и духовно
выше этой оторвавшейся от него “кости”.
С горечью и сожалением приходилось и
приходится видеть таких деятелей культуры,
которые заявляют, что они сами — народ, но давно
утратили всякую связь с жизнью народа, не желая
на деле так постичь его насущные задачи, его
реальную жизнь и устремления. Их понимание
русской народности сводится к смакованию и
выпячиванию случайных, нарочито огрубленных,
низменных сторон внешнего облика и внутреннего
характера народа. По их мнению, особенности
характера русского народа таковы: пить не
закусывая, купаться на сорокаградусном морозе,
матершинничать и все в таком духе. Для русских
якобы характерно отсутствие мысли, которую
заменяет зубоскальский задор во время ударной
работы. А ведь, по сути, все это клевета на русский
народ, незнание, неуважение и непонимание
внутренней его духовной культуры, воспитанной
веками, как это было характерно для искусства той
поры.
Такие деятели культуры, чтобы
подчеркнуть свой демократизм. “глубокое”
знание народа, любят в обиходе пустить в ход
крепкое словцо, нарочитую грубость. Но с таким
видом, что, дескать, я-то сам человек культурный,
слушаю Баха, Бетховена, знаю Рафаэля, а вот вы
другое, вы примитивны, вот я для вас и делаю
примитивное искусство, снисходительно опускаюсь
до вашего уровня, чтобы вы меня лучше поняли. Это
касается, к сожалению, не только некоторых
художников, но и писателей, поэтов, музыкантов,
создающих для народа массовые песни вроде:
“Мишка, Мишка, где твоя улыбка...”
Если же говорить о внешних признак
некоторых “соцреалистических” картин, то ноги у
женщин напоминают неотесанные сваи, а слоновья
сила, комплекция, вероятно, символизирует
крепость физической организации. Непонятно,
откуда только берут свои прототипы подобные
художники? Для мужского типажа у таких
живописцев — набор красных рож, неказистость и
примитивная недалекость облика, сочетаемая с
грубой физической силой. Позже эта тенденция
обрела статус новаторского “мужественного
стиля”.
Если уж говорить о народности, то
вернемся вновь к Пушкину. Вот уж кто никогда не
заявлял о том, что он “сам — народ”, но был
по-настоящему, в полном и высоком смысле слова
народен, любил все, что дорого народу, любил все
созданное им — его песни, былины, предания,
постигал дух народа, историческую жизнь его.
Пушкин любил природу русскую до страсти, любил
деревню русскую, любил русские национальные
характеры, любил народ свой таким, каким он был,
со всеми его положительными и отрицательными
свойствами, любил в его непосредственной
данности и реальности жизни. И нигде, никогда не
почувствуете вы у Пушкина
снисходительно-покровительственного тона или
умильно-идеализированной сусальности в
отношении к простому мужику. То же можно сказать
о Сурикове, Мусоргском и о других гениальных
сынах великого народа русского, Православного!
...Хрупкий блондин, выглядевший гораздо
моложе своих лет, с лицом мечтателя, с прямым
взглядом, исполненным внутренней силы, сказал
мне:
— Искусство — удел избранных.
Художник работает для себя... Его поймут лишь
единицы, а большинству вообще не нужно искусство.
Так называемый народ жаждет хлеба и зрелищ. Это
быдло — советское быдло!
— Так зачем же тогда искусство? —
спросил я.
— А кто знает, зачем мы живем, почему
растет трава, зачем мы любим женщин? Я не знаю,
почему, — он задумчиво, меланхолически глядел
мимо меня, — нас волнует полет облаков, согнутое
осенним ветром дерево... Я могу часами смотреть на
его скрюченные ветви и думать, на что они похожи.
Как чувствовали гармонию мира старые мастера! Я
долго рассматривал Рембрандта, откуда у него
такой изумительный желто-золотистый цвет, как
расплавленный янтарь, и потом понял — это
лессировки. Рембрандт — это лессировка [ 69 ] .
— Значит, ты совершенно исключаешь
страстное служение художника какой-то духовной,
точнее религиозной идее? Разве искусство не
средство выражения этой идеи?
— Какие идеи? — Он удивленно пожал
плечами. — Суриков написал “Боярыню Морозову”,
увидев ворону на снегу, а “Стрельцов” — увидев
отблеск свечи на белой рубахе.
— Но позволь, — прервал я его, —
по-моему, это был лишь толчок, помогший Сурикову
воплотить давно живущий в его душе мир образов!
Дело именно в них, а не в вороне на снегу, которую
могли видеть многие художники, не написавшие,
однако, “ Боярыню Морозову”.
— Допустим, — согласился он, — но вот
какая была “духовная идея” (я повторяю твои
слова) у Врубеля, которого я люблю еще более, чем
ты, когда он писал “Раковину”? А твой любимый
Рерих говорил: “Умейте прочитать душу камня...”
Что это значит?
— Но ведь цело не в раковине, —
возразил я, — она у Врубеля лишь повод для
выражения собственного мира волшебных грез и
фантастических образов мечты, ассоциируемых с
перламутровыми переливами этого морского чуда.
Твои примеры далеко не исчерпывают всех идей
творчества
Врубеля и Рериха. Но и в этих вещах
проявилось умение русских художников
одухотворить неживую природу, наполнить и
преобразить ее собственным, глубоко интимным
переживанием. Еще Нестеров говорил...
— Ну вот, ты все русские, русские, как
будто в этом дело, — перебил он меня. — Вермеер,
Ван Дейк, Моне, Дега, Хокусаи, Утамаро — все они
служат одному: красоте. И в этом их общность. Ты
согласен?
— Нет. — Я волновался, мне хотелось
быть понятым. — Дело в том, что я всех художников,
независимо от величины, делю на “Изобразителей”
и “выразителей”. Выразители не пассивно
отражают мир (хоть “изобразители” могут достичь
в этом отражении высочайшего мастерства и
гармонии), а несут в себе некий прометеев огонь,
преображают мир высотой своих духовных идеалов,
борением духа. Веласкес, Репин, Франс Хальс, малые
голландцы, Клод Моне — гениальные
“изобразители”. А. Рублева, Врубеля, Эль Греко,
Рериха я считаю выразителями глубочайших
переживаний человеческого духа, раскрытого
индивидуально, в конкретных формах объективно
существующего мира. Одни творят характеры и
типажи, а другие — философские мыслеобразы,
выражающие нравственные, социальные и
эстетические категории. Здесь формы внешнего
мира служат для выражения мира внутреннего. Дух,
по-моему, всегда национален, как национально
понятие о красоте. История доказала что чем более
национален художник, тем он и более
интернационален в высшем смысле этого слова.
Разве не свое понимание красоты и гармонии мира у
Эль Греко, Хокусаи, Рубенса, Врубеля?
Интернационального искусства не существует,
есть только национальное искусство.
Он внимательно слушал меня, но не
соглашался... Однажды я поздно вечером, по
обыкновению, сидел в академической библиотеке за
монографией Эль Греко и рассматривал (в который
раз!) бесподобные по свое
Две игривые шалавы
Мамаша в чёрных чулках мастурбирует большую толстую жопу
Жопастая африканка сделала частное фото