Нагая красотка обливается водой на заднем дворе дома
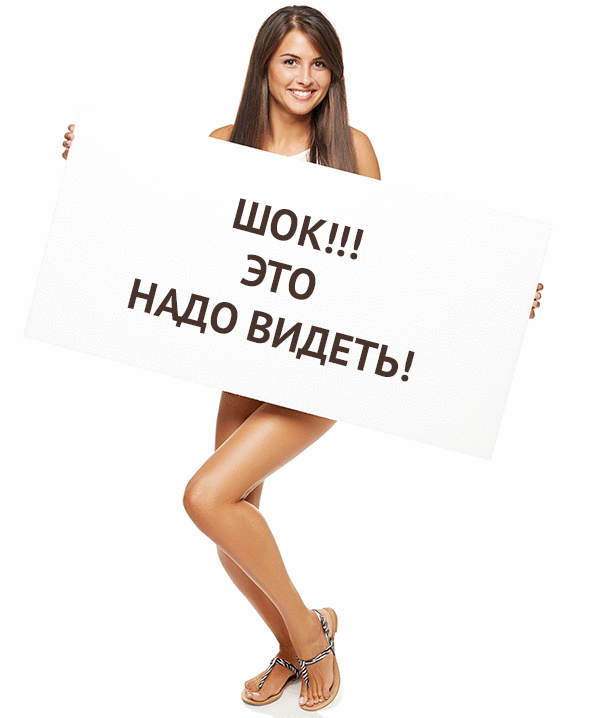
💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Нагая красотка обливается водой на заднем дворе дома
Если доступны результаты автозаполнения, используйте стрелки вверх и вниз для их просмотра и выбора. Если у вас сенсорное устройство, выбирайте варианты с помощью касаний и жестов прокрутки.
Продолжить с помощью электронной почты
Русский толстый журнал как эстетический феномен
Журнальный зал
(Рассказ. Перевод с английского М. Кан. Послесловие А. Зверева)
© Горький Медиа. Сетевое издание «Горький» зарегистрировано в Роскомнадзоре 30 июня 2017 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77—70221
(Фрагмент книги. Перевод с французского Ю. Розенберг)
“Я пишу потому, что не понимаю, кто я есть. Филипп Лежён говорит, что нельзя браться за автобиографию, если не понимаешь смысла прожитой жизни. По–моему, это абсурд. Я потому и пишу, что не понимаю, иначе мне было бы неинтересно. Лежён говорит: писатель имеет право ошибаться, но не имеет права лгать. Однако сознательно лжет только тот, кто верит, что тут может существовать некая истина. Если же я не понимаю, кто я, и не знаю правды о себе, то не могу и знать, лгу я или не лгу.
В “Возвращающемся зеркале” есть такая фраза: “Если бы я мог понять, кто такой Анри де Коринф, я бы мог объяснить и кто я”. Это программная фраза. Человек по имени Анри де Коринф существовал на самом деле, но в моих книгах это образ, вымышленный от начала до конца. Он нужен мне, чтобы строить повествование. Могу пояснить это на чужом примере. Однажды сын Маргерит Дюрас нашел старый альбом с фотографиями времен Индокитая, где ей лет четырнадцать–пятнадцать. Он предложил фотографии издателю, который выпускает фотоальбомы. Тот сказал: “Если там будут одни фотографии, никто не будет покупать. Пусть Маргерит Дюрас напишет к ним текст”. Маргерит смотрит на фотографии и пишет огромный текст. Издатель снова отказывается: “Твоя мать ненормальная. Я просил подписи к фотографиям, а она накатала сто страниц”. Потом книга попадает к нам, в издательство “Минюи”, Жером Лендон, глава издательства, ее читает и восторгается. “Будем печатать, только вот фотографии ни к чему, они здесь лишние”. Но любопытно вот что. Когда Дюрас разбирала эти фотографии, она вдруг сказала: одной не хватает. Идея в ее духе: отсутствующая фотография, вокруг которой строится все. И вот появляется вымышленная фигура — китаец–миллионер в роскошной машине с опущенными шторками
. И вся книга выстраивается вокруг этого иллюзорного центра. Так стоит ли затевать полицейское расследование: был ли китаец и т. д.?
Я думаю, что не только имею право, но и попросту должен лгать, рассказывая о себе. Лишь с помощью вымысла я могу приблизиться к чему–то подлинному. Между прочим, сам по себе этот факт тоже воссоздает некую реальность, мою собственную. И если бы мне предложили назвать образцовую автобиографию, я бы назвал “Замогильные записки” Шатобриана, где нет ни слова так называемой истины, а книга великолепна! Я нахожу идеи Лежёна интересными, но они прямо противоположны тому, что думаю я сам.
Вообще–то мои романы не бестселлеры, а, так сказать, “лонгселлеры”. Но к “Возвращающемуся зеркалу” успех пришел почти сразу, и этим книга обязана своей автобиографической части — истории моего детства, моей семьи. Семья у меня была довольно колоритная и необычная: очень бедная, но при этом крайне правых взглядов. Все привыкли, что бедные — всегда левые, а богатые — правые. А тут наоборот. Для широкой публики такие вещи гораздо интереснее, чем мои литературные теории. В биографическом плане каждый из томов трилогии охватывает какой–то определенный период или определенную сторону моей жизни. В “Зеркале” — это детство, отрочество, война. В “Анжелике” — мои сексуальные влечения, довольно… шокирующие. В “Последних днях Коринфа” — история “нового романа”, моя работа в издательстве “Минюи”, отношения с писателями. Вымысел от тома к тому приобретает все большее значение. В “Анжелике”, например, он преобладает, и иногда кажется, будто война 1914 года происходит в каком–то заколдованном лесу из бретонских легенд о рыцарях Круглого стола.
Вся моя трилогия построена, в сущности, по тому же принципу, что книга Пруста “Против Сент–Бёва”, где переплетаются автобиография, вымысел и суждения о литературе. У меня тоже три пласта: автобиографический, художественный и, условно говоря, теоретический, где я размышляю о кино, о литературе.
Выбирая фрагмент для журнальной публикации, вы, разумеется, можете взять его из любого пласта. Но мне хотелось бы, чтобы в нем была смесь всех трех”.
Иногда мне удается определить, чей лик проступает в сплетении трещин на потолке или узоров на обоях: то это знаменитый артист с очень характерными чертами лица; то политический деятель, долгое время служивший мишенью для атак падкой на скандалы прессы; то кто–то из моих родственников или друзей, близкий знакомый, человек моего круга. Иногда, правда очень–очень редко, в переплетении листьев и неясно очерченных соцветий вдруг робко проступает волнующий улыбчивый ротик хорошенькой девушки, почти неуловимый, зыбкий, готовый вот–вот исчезнуть среди столь же зыбких, смазанных, дрожащих контуров гирлянд и букетиков, полустертых временем, выцветших, как бы подернутых дымкой, в особенности в тех местах, куда попадает дневной свет и где солнечные лучи уже почти разрушили старинный, можно даже сказать древний, узор, например вон там, слева от письменного стола из темного узловатого ореха, за которым я обычно сижу, склонив голову набок, и на разбросанных в беспорядке черновиках пишу чуть подрагивающей рукой имя Анжелики… Почему это имя все еще преследует меня? Почему, ну почему ты покинула меня, мой маленький огонек, и оставила одного, озябшего и оцепеневшего то ли от холода, то ли от горя, одного под потоками дождя и порывами ветра?
Тени умерших проносятся быстро, подстегиваемые налетающим шквалом, они проносятся на серых скакунах изорванных в клочья туч по зыбкому, постоянно меняющему цвет небу —
небу близкой весны, первой, которая станет и последней. Тени умерших проносятся быстро. Они следуют друг за другом непрерывной вереницей. Когда–то их звали Ивейн, Тристан из Леонуа, Парсифаль, Ланселот Озерный, король Артур… Они несутся галопом, подпрыгивают в плохо закрепленных седлах, рискуя в любую минуту свалиться с коней, ибо их тела, закованные в блестящие латы, то опасно отклоняются назад, то резко клонятся влево, то столь же резко вправо. В любую минуту можно ожидать, что перед твоими глазами возникнет ужасная картина: сброшенный с седла рыцарь в грохочущих доспехах, рыцарь, чья нога так и осталась в стремени, бьется головой о землю, а его обезумевший скакун несется с уже неживым седоком по полям и лесам… Судьба Мазепы и королевы Австразии Брунгильды… Но эскадрон призраков продолжает свой путь, уносимый западным ветром, что порывами налетает в течение уже трех дней. За первым эскадроном вскоре появляется и второй, в котором я узнаю Ричарда Глостера, Гламисского тана Макбета, Йозефа К., Сарториса, Ивана Карамазова и его брата Дмитрия, Бориса — цареубийцу и узурпатора, Эдуара Маннере, Николая Ставрогина… За ними следуют и другие тени. Потоки воздуха и порывы ветра то и дело разрывают на части этих бурно жестикулирующих облачных марионеток, скручивают их, треплют, как флаги на полях сражений, рассеивают, чтобы из этих клочков и лохмотьев создать новые кавалькады призраков.
Прямо внизу, между оголенными ветвями выстроившихся в четыре ряда толстых буков, образующих весьма внушительную подъездную аллею, возвышается Черный дом, освещенный призрачным, пронизанным предчувствием близкого ненастья светом конца зимы, предвесенья. Он возвышается как нечто бесполезное и неколебимое, стойкое, прочное, похожий, пожалуй, на стоящий у мола старый военный корабль, лишенный пушек и парусов, на который обрушиваются столь же упорные, как и он сам, волны. Корабль, на который все падает и падает снег: снег детства и детских страхов, снег сновидений и грез, снег столетий, снег вечности, снег воспоминаний. Я припоминаю, что после выхода в свет моего романа “В лабиринте”, первого из моих романов, за которым в большой печати признали некоторые достоинства, Ролан Барт, напротив, упрекал меня в том, что я уделил слишком большое внимание этому назойливому снегу, медленно засыпавшему городок, осажденный противником после поражения в битве при Рейхенфельсе, той самой, в ходе которой подполковник де Коринф, как я уже имел честь вам рассказывать, отличился и прославился, из удальства прогарцевав на виду у неприятеля во главе своих драгун. Как утверждал Барт, чрезмерная “прилагательность” этих снежинок и хлопьев, неумолимо обволакивавших саваном обезлюдевший городок, сообщала им метафоричность, каковую мы с ним незадолго до того дружно осудили, ибо она влечет за собой образование на любой вещи или предмете своеобразной липкой корочки, которая в итоге лишает их наглядности и даже реальности.
Сегодня, как и прежде, я ничего не описываю, если не вижу явственно свой объект, если он не предстает перед моим внутренним взором почти материально. Вот так превращается в нечто вечное сейчас, в эту минуту, размеренное, монотонное падение белых неосязаемых пятнышек: они движутся сверху вниз, все с одинаковой скоростью, безмятежно, спокойно, как будто чья–то невидимая рука разбрасывает их по поверхности театрального занавеса, еще только создаваемого другой невидимой рукой, которая мягко и бесшумно движет уток с нитями, направляя его откуда–то сверху, из–под колосников, находящихся вне поля зрения. Однако довольно толстый слой снега, покрывающий безлюдный пейзаж, притихшие пустые улицы, палубу покинутого экипажем судна, мой письменный стол, несмотря на бесконечное падение снежинок, почему–то почти не увеличивается.
Два прилагательных с первых страниц так и просятся на кончик пера: “зыбкий” и “чрезмерный”. Я уже употреблял их. И произошло это отнюдь не случайно и отнюдь не из–за преступного недосмотра. Чрезмерность эффекта присутствия, когда предметы словно застывают, замирают на миг (этот снег, что падает сейчас, неподвижен, он как бы завис над зимним пейзажем в рамке окна — пустого кадра, чистого экрана, белой страницы), может сравниться в своей обманчивой ясности только с зыбкостью связей, объединяющих картины и образы между собой
— образы странствующих рыцарей или затонувших кораблей, — чтобы придать этим картинам и образам некие возможные случайные значения, впрочем постоянно подвергаемые сомнению, ибо они похожи на хлопья пены, что выносит на берег волна, приподнимает на мгновение и грозит тотчас же поглотить, настолько они хрупки, мимолетны и зависят от прихотливой игры случая.
Итак, снова Черный дом после настоящего потопа из мокрого, полурастаявшего снега. Облака быстро несутся с запада на восток, и само небо словно расколото, разбито на мелкие куски: темные, очень темные тучи со свинцовым отблеском чередуются с сероватыми просветами, озаренными по краям золотистым сиянием. В свете этого промокшего и продрогшего предвесенья все предметы открывающейся моему взору картины поблескивают как–то уж слишком ярко, даже подозрительно: порыжелые прошлогодние листья, почти неповрежденные, с четкими контурами, образуют плотный мокрый ковер на земле по обе стороны от центральной аллеи, раскисшей до состояния жидкой грязи, где каким–то чудом сохранились отпечатки лошадиных копыт; замерзшие капельки превратились в хрустальные подвески на стеблях уцелевших кое–где злаков, иссушенных зимними холодами и согнутых в дугу, и, наконец, надо всем возвышаются голые, воздетые вверх ветви огромных старых буков, находящихся сейчас как раз против света, так что каждая чернильно–черная ветвь этой сложной запутанной системы не теряется, а подчеркивается особо.
Там, в глубине, мрачный фасад большого дома кажется еще более темным, он буквально размок от потоков воды, придающей влажному граниту угольный оттенок, отчего еще отчетливее выделяются на втором этаже высокие окна, словно подобия разбитых зеркал, чьи шероховатые стекла отражают блики, отбрасываемые изменчивыми, лохматыми тучами, и сами посылают им свои собственные. Отчасти это похоже на то, как будто “кони бледные” нападают или светлые волосы развеваются, улетают в поднебесье и там исчезают. Но внезапно, во время краткого интервала между двумя просветами, небо перестает отражаться в оконных стеклах и уступает место тому, что находится за стеклом, то есть в глубине одной из комнат, и в окне появляется лицо мужчины — тонкие усики, нос с горбинкой, глубоко посаженные глаза, — в котором припозднившийся гость без труда, несмотря на приличное расстояние и искаженные оконным переплетом черты, узнает суровый, строгий, даже жесткий лик Анри де Коринфа, застывшего у окна и словно подстерегающего кого–то или настороженно ожидающего чего–то.
Перевод с французского Ю. РОЗЕНБЕРГ
Принимая летом в нашей редакции Алена Роб–Грийе, знаменитого “отца нового романа” (хотя Набоков и утверждал в одном из интервью, вошедшем в книгу “Сильные мнения”, что никакого “нового романа” нет, а есть один великий французский писатель — Роб–Грийе), мы попросили его рассказать о своей автобиографической трилогии “Романески”, в которую входят книги “Возвращающееся зеркало” (1985), “Анжелика, или Чары” (1988) и “Последние дни Коринфа” (1994).
“Я пишу потому, что не понимаю, кто я есть. Филипп Лежён говорит, что нельзя браться за автобиографию, если не понимаешь смысла прожитой жизни. По–моему, это абсурд. Я потому и пишу, что не понимаю, иначе мне было бы неинтересно. Лежён говорит: писатель имеет право ошибаться, но не имеет права лгать. Однако сознательно лжет только тот, кто верит, что тут может существовать некая истина. Если же я не понимаю, кто я, и не знаю правды о себе, то не могу и знать, лгу я или не лгу.
В “Возвращающемся зеркале” есть такая фраза: “Если бы я мог понять, кто такой Анри де Коринф, я бы мог объяснить и кто я”. Это программная фраза. Человек по имени Анри де Коринф существовал на самом деле, но в моих книгах это образ, вымышленный от начала до конца. Он нужен мне, чтобы строить повествование. Могу пояснить это на чужом примере. Однажды сын Маргерит Дюрас нашел старый альбом с фотографиями времен Индокитая, где ей лет четырнадцать–пятнадцать. Он предложил фотографии издателю, который выпускает фотоальбомы. Тот сказал: “Если там будут одни фотографии, никто не будет покупать. Пусть Маргерит Дюрас напишет к ним текст”. Маргерит смотрит на фотографии и пишет огромный текст. Издатель снова отказывается: “Твоя мать ненормальная. Я просил подписи к фотографиям, а она накатала сто страниц”. Потом книга попадает к нам, в издательство “Минюи”, Жером Лендон, глава издательства, ее читает и восторгается. “Будем печатать, только вот фотографии ни к чему, они здесь лишние”. Но любопытно вот что. Когда Дюрас разбирала эти фотографии, она вдруг сказала: одной не хватает. Идея в ее духе: отсутствующая фотография, вокруг которой строится все. И вот появляется вымышленная фигура — китаец–миллионер в роскошной машине с опущенными шторками
. И вся книга выстраивается вокруг этого иллюзорного центра. Так стоит ли затевать полицейское расследование: был ли китаец и т. д.?
Я думаю, что не только имею право, но и попросту должен лгать, рассказывая о себе. Лишь с помощью вымысла я могу приблизиться к чему–то подлинному. Между прочим, сам по себе этот факт тоже воссоздает некую реальность, мою собственную. И если бы мне предложили назвать образцовую автобиографию, я бы назвал “Замогильные записки” Шатобриана, где нет ни слова так называемой истины, а книга великолепна! Я нахожу идеи Лежёна интересными, но они прямо противоположны тому, что думаю я сам.
Вообще–то мои романы не бестселлеры, а, так сказать, “лонгселлеры”. Но к “Возвращающемуся зеркалу” успех пришел почти сразу, и этим книга обязана своей автобиографической части — истории моего детства, моей семьи. Семья у меня была довольно колоритная и необычная: очень бедная, но при этом крайне правых взглядов. Все привыкли, что бедные — всегда левые, а богатые — правые. А тут наоборот. Для широкой публики такие вещи гораздо интереснее, чем мои литературные теории. В биографическом плане каждый из томов трилогии охватывает какой–то определенный период или определенную сторону моей жизни. В “Зеркале” — это детство, отрочество, война. В “Анжелике” — мои сексуальные влечения, довольно… шокирующие. В “Последних днях Коринфа” — история “нового романа”, моя работа в издательстве “Минюи”, отношения с писателями. Вымысел от тома к тому приобретает все большее значение. В “Анжелике”, например, он преобладает, и иногда кажется, будто война 1914 года происходит в каком–то заколдованном лесу из бретонских легенд о рыцарях Круглого стола.
Вся моя трилогия построена, в сущности, по тому же принципу, что книга Пруста “Против Сент–Бёва”, где переплетаются автобиография, вымысел и суждения о литературе. У меня тоже три пласта: автобиографический, художественный и, условно говоря, теоретический, где я размышляю о кино, о литературе.
Выбирая фрагмент для журнальной публикации, вы, разумеется, можете взять его из любого пласта. Но мне хотелось бы, чтобы в нем была смесь всех трех”.
В узорах на окружающих меня неживых, неподвижных предметах мне вечно чудятся человеческие лица: они медленно проступают, формируются, постепенно обретают четкие очертания, затем на краткий миг застывают, а потом начинают пристально смотреть на меня и корчить рожи. Но, как мне сказали, в подобной предрасположенности моего сознания и взгляда нет ничего необычного, практически каждый ловит себя на том, что распознаёт в прожилках и узловатых узорах древесины (на дубовых дощечках паркета, на каповом наросте секретера или бюро из вяза, на запятнанной чернилами столешнице орехового письменного стола) или в паутине трещинок на потолке, шелушащемся лепестками сероватой штукатурки над высокими окнами, но чаще всего — в переплетении цветочных гирлянд на обоях, когда–то красивых и ярких, а теперь выцветших и поблекших, на стенах моей погружающейся во мрак грядущей ночи комнаты то явственные очертания носа с горбинкой, то тонкие усики, то замечает направленный на себя взгляд глубоко посаженных глаз, правда расположенных несколько асимметрично на воображаемом лице, или видит сведенный судорогой рот, кривящийся то в мучительном крике, то в жутком хохоте, то раздираемый зевотой, то искаженный горестной складкой или гримасой отчаяния. Ибо те лица, что различает каждый из нас, никогда не бывают обычными человеческими лицами, нейтральными и спокойными, нет, всегда или почти всегда мы имеем дело с лицами в высшей степени экспрессивными, взирающими либо прямо на нас, либо обращенными к нам вполоборота, реже в профиль, — лицами столь своеобразными, странными, что они наводят на мысль об уродцах с провинциальных ярмарок, о жертвах войны, изуродованных “огнем и мечом”, просто о карикатурах из какой–нибудь газетенки. Однако выражение этих лиц таит в себе некоторую двойственность и может быть истолковано совершенно различно, в зависимости от времени суток, освещения или настроения человека, их рассматривающего.
Иногда мне удается определить, чей лик проступает в сплетении трещин на потолке или узоров на обоях: то это знаменитый артист с очень характерными чертами лица; то политический деятель, долгое время служивший мишенью для атак падкой на скандалы прессы; то кто–то из моих родственников или друзей, близкий знакомый, человек моего круга. Иногда, правда очень–очень редко, в переплетении листьев и неясно очерченных соцветий вдруг робко проступает волнующий улыбчивый ротик хорошенькой девушки, почти неуловимый, зыбкий, готовый вот–вот исчезнуть среди столь же зыбких, смазанных, дрожащих контуров гирлянд и букетиков, полустертых временем, выцветших, как бы подернутых дымкой, в особенности в тех местах, куда попадает дневной свет и где солнечные лучи уже почти разрушили старинный, можно даже сказать древний, узор, например вон там, слева от письменного стола из темного узловатого ореха, за которым я обычно сижу, склонив голову набок, и на разбросанных в беспорядке черновиках пишу чуть подрагивающей руко
Русская дочь любит сосать член и трахаться с отцом
Секс с очаровательной блондинкой на природе
Женщина перед сном сделала минет сожителю и трахнулась с ним без презика