НИЛ СТИВЕНСОН И ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ ФАНТАСТИКИ. часть 1
Лев КауфельдтЭтот текст полон обожания, потому что Нил Стивенсон – один из самых титулованных фантастов на Земле, один из самых сильных, эрудированных и умных писателей и попросту один из моих любимых авторов. Примем это как данность и двинемся дальше. Человеку, не ведающему о величии Нила Стивенсона как писателя, нужно, согласитесь, прежде всего это величие объяснить. В двух словах сделать это будет несколько затруднительно, примерно как: вот это – Солнце, оно светит, греет, раз в три-четыре года выпускает по семисотстраничному роману и без него была бы невозможна жизнь на Земле. Пойдем долгим путем: скажем несколько хвалебных слов о каждом его романе, а российский переводчик книг Стивенсона – Екатерина Михайловна Доброхотова-Майкова – поможет нам в рассказе о пока еще непереведенных на русский язык романах.
THE BIG U (1984)
Дебют двадцатипятилетнего Нила – трехсотстраничная сатира на положение дел в стивенсовской alma mater, Бостонском университете, так называемый campus novel – вид жанрового сочинения об увлекательной жизни студентов и преподавателей в замкнутых мирках западных университетов. На русский язык не переведен.
Екатерина Доброхотова-Майкова: «Большое У» мне в свое время очень понравилось, не знаю, почему сам Стивенсон считает его дебютной книгой, не стоящей особого внимания. Это про университетскую жизнь, с фирменным стивенсоновским гротеском в изображении идиотизма жизни, местами очень смешно, местами очень грустно. Сюжет у меня начисто вылетел из головы, а вот персонажей и отдельные сцены помню как живые.

ZODIAC: AN ECO-THRILLER (1988)
Это не нон-фикшен про знаменитого маньяка, а весьма лихое повествование о природозащитниках Бостонского залива. Здесь появляется тот архетип стивенсоновского героя (да и злодея тоже), который без особых изменений пройдёт через все его книги. Также мы уясним способ подачи Стивенсоном информации – в виде слегка шутливых сжатых, но переполненных научными фактами лекций, которые, не давая читателю времени на рассудительное усвоение, молниеносно перерастают в экшен-сцены погонь и схваток. Архетип нашего героя – покладистый и смекалистый Фигаро компьютерной эры, готовый пострадать за идею, главное, чтобы идея была классная и нешуточно наукоемкая. «Зодиак» лучше читать после «Криптономикона», тогда станет немного более понятна и близка повествовательная манера Стивенсона, зачастую пользующегося довольно сложными методами для красивого решения простых литературных задач.
Образ протагониста «Зодиака» Сенгеймона Тейлора вдохновлен реальным человеком – химиком-энвайронменталистом Марко Кэлтофином, известным бостонским ученым и защитником окружающей среды. Сим начинается славная история вдохновляющих Нила на создание как положительных, так и отрицательных героев, реальных прототипов – селебрити научно-политического мира.
Почти все иллюстрации, приводимые в статье, созданы Патриком Аррасмитом. Вот его сайт https://www.parrasmith.com/ и прекрасная подборка других полотен https://disgustingmen.com/art/patrick-arrasmith
SNOW CRASH (1992)
Номинант пятнадцати международных премий в области фантастики и лауреат семи из них, «Лавина» – это начало легенды о восхождении простого парня-программиста с парой романов за плечами к статусу всемирно известного писателя. Это реально посткиберпанк, в том же примерно смысле, в каком ответственные лица называют Пинчона «прародителем» киберпанка. Во-первых, сам Брюс Стерлинг писал, что Стивенсон вырос не на безрыбье, где классики жанра буквально на ходу придумывали всё сами, попадая пальцем в небо, а первым из них явился реально подкованным технологически и понимающим принципы работы того, о чём пишет. «Лавина» хоронит весь классический киберпанк 70-80-х, выстраивая новую систему ценностей, эклектизируя жанр, беря первый разгон перед недостижимой вершиной «Криптономикона». «Лавина» как чертов диверсант выворачивает саму суть киберпанка, нарративно приближая её к безбашенному технотриллеру, а в смысловом плане поднимая такие громоздкие и неудобные социальные, исторические, нейролингвистические темы, сюжетно восходя к Шумерской мифологии, первым векам Христианства и чуть ли не к «Хазарскому словарю» Павича. Становится даже неловко за некоторую отвлечённую погружённую в полный футуризм детскую наивность классиков жанра. «Лавина» потихонечку вытесняет жанр в состояние стопроцентной осознанности поставленных задач и возможных перспектив претворения этой киберпанк-технократии в жизнь. Во время чтения можно пальцы загибать, считая, сколько современных технологических реалий предсказал и предопределил Стивенсон в начале 90-х, но хватит ли пальцев?
Основным трудом, вдохновившим Нила на написание «Лавины», была книга американского психолога Джулиана Джейнса «Происхождение сознания в результате разрушения бикамерального разума» (1976). Джейнс определяет человеческое сознание скорее как то, что в философии и когнитивной этологии (науке, изучающей интеллект животных) называется метасознанием, то есть рассудочной деятельностью. Термин «метасознание» был введен американским психологом Джоном Флейвеллом в процессе описания «самосознания личности и рассмотрения собственных когнитивных процессов и стратегий» – это уникальная способность людей к саморефлексии, к способности не просто обдумывать и знать, а обдумывать то, КАК люди мыслят и ЧТО они знают. Джейнс же выдвигает теорию о том, что около трех тысяч лет назад древний человек не осознавал себя как личность и не использовал сознание в той мере, в какой пользуемся им мы в славные новые времена. Согласно его гипотезе бикамеральности (устоявшегося перевода этого термина нет, поэтому можно сказать и «двухкамерности», и «двухпалатности», и даже «двухполушарности»), до определенного исторического времени человек не имел сознания в понимании современного когнитивного метасознания, а разум его состоял из двух слабо связанных между собой частей (камер) – одна принимала решения, другая им следовала.
Ярким примером и доказательством своей теории Джейнс приводит «Илиаду», герои которой ведут себя совершенно нетипично для современного человека: они не размышляют, не вспоминают, не рефлексируют, а все важные решения принимают посредством некоего «божественного голоса» в голове. Это означает, что у древнего «бикамерального» человека отсутствовало внутреннее ментальное пространство, где происходила бы саморефлексия, могло бы возникнуть сомнение, противоречие и несогласие. Он приписывал свой внутренний голос, отдающий ему необходимые команды, божеству либо правителю. Отчасти поэтому все древние цивилизации были иерархическими теократиями, схожими с колониями социальных насекомых. Разрушение бикамерального разума началось по Джейнсу около 1400 г до н.э., когда усложнение социальных реалий потребовало более гибкого и адаптивного сознания, способного к интроспекции и самоосознанию. Со временем появилась идея небес, куда удалились боги – люди перестали «слышать» их голоса и им понадобились «посредники» в разговоре с божествами – пророки и оракулы – последние в своем роде индивиды, у которых еще сохранялась бикамеральность разума.
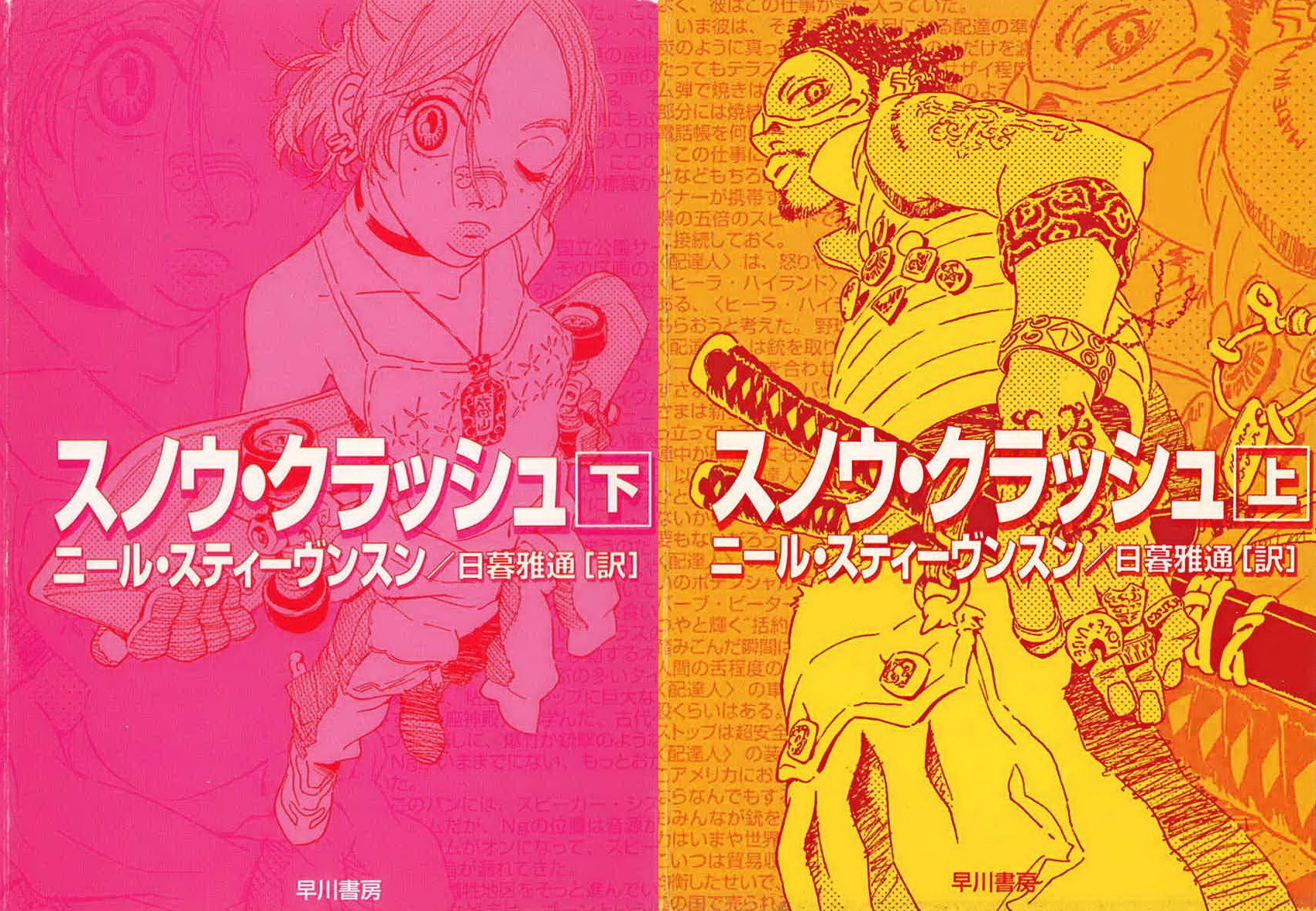
Некоторое внимание проблеме бикамеральности уделяет и Станислав Лем в вышедшем в 1985 романе «Мир на Земле», где главный герой Ийон Тихий подвергается каллотомии (хирургическому разделению полушарий мозга), в результате чего сознание Ийона распадается на две самостоятельные части, и контакт со своим альтер-эго, обитающим в правом полушарии, Ийон, контролирующий теперь только одно левое полушарие, может установить лишь с помощью языка жестов и азбуки Морзе.
Помимо этих дерзких теорий Стивенсон развивает в «Лавине» понятие киберпространства (напомним, на дворе 1992 год), впервые появившееся в повести Вернора Винджа «Истинные имена» (1981). Виндж без особого знания компьютерных технологий теоретически предсказал слияние компьютерных игр с всемирными коммуникационными системами; в этом его поддержал в послесловии к повести Марвин Мински – один из отцов искусственного интеллекта, основатель Лаборатории ИИ в Массачусетском технологическом институте (позже этот институт будет фигурировать в «Ртути» Стивенсона). А после и сам Уильям Гибсон в «Нейроманте» (1984) отвесил Винджу поклон. Собственно, термин «кибернетическое пространство» впервые появляется в рассказе Гибсона «Сожжение Хром» (1982), сам автор определяет его как «массовую осознанную галлюцинацию в компьютерной сети». Стивенсон в «Лавине» расширяет понятие «киберпространства», вводя в обиход термин metaverse – метавселенную – общедоступное виртуальное пространство, отвечающее почти всем свойствам объективной реальности. У Нила это длиннющее застроенное по обеим сторонам зданиями шоссе шириной в сто метров, длиной 65 536 километров, куда пользователи попадают с помощью компьютерных терминалов и очков виртуальной реальности.
Слава «Лавины» была настолько широка, что в 1996 по ней даже начали разрабатывать компьютерную игру, но до конца дело не довели. Идея об экранизации дальше разговоров и жонглирования правами между Amazon, HBO Max и Paramount пока не зашла. Необходимый скандальный импеданс нашей статье можно придать, поведав о том, что некоторые основные сцены «Фальшивых зеркал» (1999) Сергея Лукьяненко кажутся начисто списанными с «Лавины». А интриги в «Generation „П“» (тоже 1999) Виктора Пелевина также связаны с Шумерской мифологией. Но особых предпосылок злорадствовать нет. Впервые издана на русском «Лавина» лишь в 2003 г., а Лукьяненко и сам признает, что писал цикл про дайверов чуть ли не на спор, дабы показать русскому читателю «киберпанк с человеческим лицом», а штампы или, если угодно, стандарты жанра, заложенные еще в восьмидесятых, вполне предполагают множество явных и неявных, даже бессознательных копирований, впрочем, об этом в «Лавине» тоже есть пара слов.

THE DIAMOND AGE: OR, A YOUNG LADY'S ILLUSTRATED PRIMER (1995)
«Алмазный век, или Букварь для благородных девиц» – веха в истории русского перевода. Впервые книгу Нила Стивенсона берет в руки Екатерина Доброхотова-Майкова. Действие в романе происходит спустя два поколения после «Лавины», Нил перебрасывает между романами мостик с помощью рассказов «Великий симолеонский капер» и «Извлечение из третьего и последнего тома “Племён Тихоокеанского побережья”». И тут мы с некоторым недоумением замечаем, что посткиберпанк в мире будущего долго не продержался. Его заменил высокоточный техногенный аналог викторианства, этакий изящный великобританский ретрофутуризм. А текст романа функционирует в странном для конца XX века жанре Bildungsroman – романа воспитания с естественными поправками на ехидные методы Стивенсона.
«Алмазный век» показывает мир будущего, исполненный нанотехнологий практически как в книге «Машины сотворения» (1986), написанной нанотехнологом Эриком Дрекслером и его научным руководителем, уже упомянутым Марвином Мински. Если Мински – отец искусственного интеллекта, то Дрекслера называют отцом нанотехнологий. Термин этот был введен профессором токийского университета физиком Норио Танигути в 1974 году, а Дрекслер попытался использовать нанотехнологии на практике: для создания высокоэффективных солнечных батарей и пр. Кроме упоминания в «Алмазном веке» фамилия Дрекслера также фигурирует в НФ-романе Кена Маклеода «Поминки по Ньютону», где автор претворил в жизнь дрекслеровскую идею наноассемблера – гипотетической машины для создания и сборки конструкций из отдельных атомов или молекул. В «Машинах создания» Дрекслер и Мински описывают нанотехнологии, предвосхищенные физиком Ричардом Фейнманом аж в 1959 году. «Алмазный век» же являет нам мир победивших нанотехнолгий, в котором свободно и почти повсеместно действующие наноассемблеры могут изготовить практически любую вещь.
В диккенсовской повествовательной манере Стивенсон декларирует свое видение будущего, генерируя свой собственный жанр из детских сказок, теорий нанофизики и проблем перенаселения планеты, отказываясь от преемственности с прежней научной фантастикой, оперируя сугубо реальными научными и социологическими прогнозами – пишет ненаследственную, нефэндомную фантастику, замыкая все исключительно на себя. Многие до сих пор не могут простить ему такой дерзости.
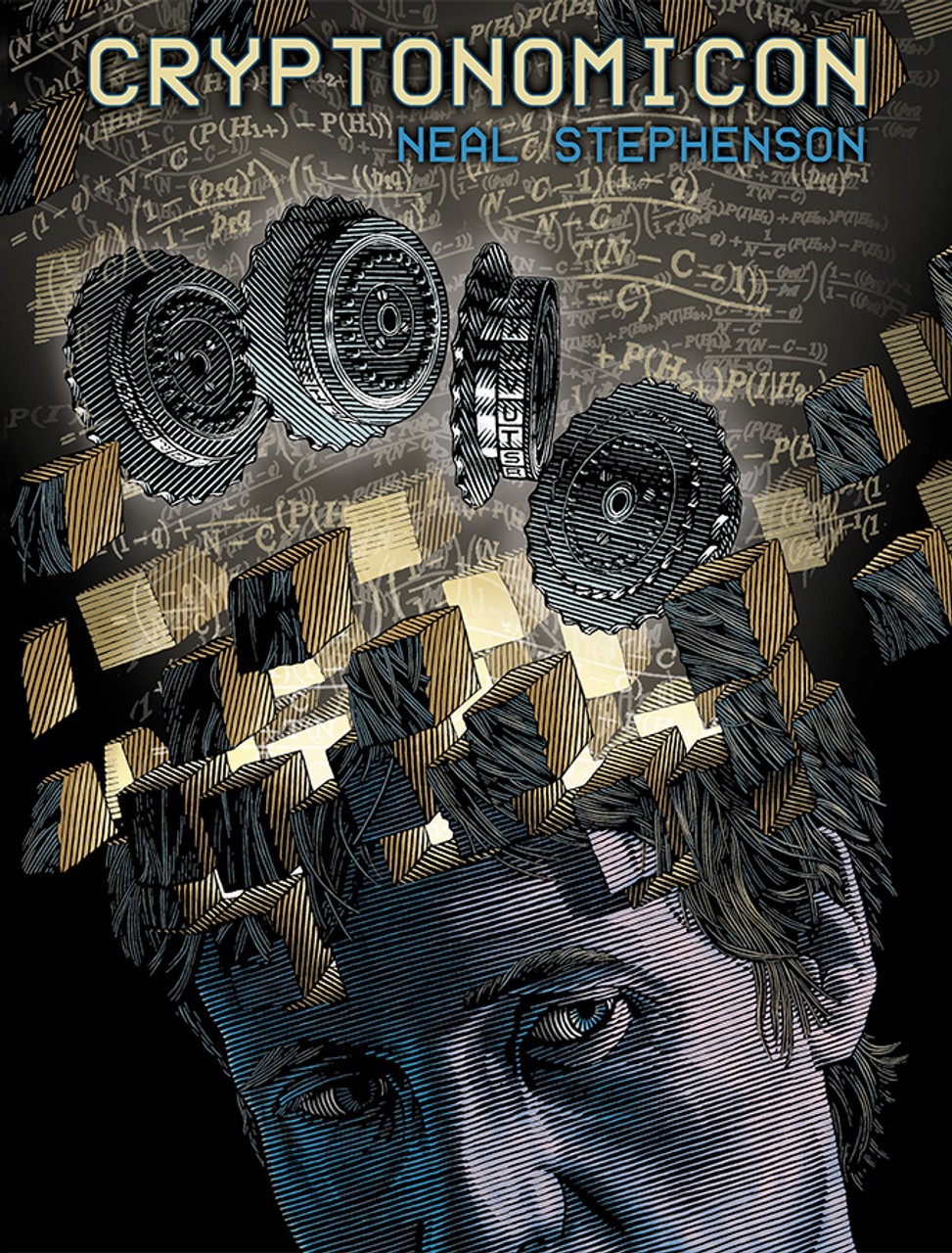
CRYPTONOMICON (1999)
Какими словами описать приключенческий, почти плутовской роман с эпиграфом из Алана Тьюринга (когда пытаешься начать читать «Криптономикон» на английском, первое, на чем ломаешься – это именно эпиграф из Тьюринга) и начинающийся с самодельного авторского хокку
Визг шин. Завал вбок.
Срубили рощу бамбука –
Из нее – песнь войны.
(перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой)
«Крипто» – только косвенно роман о шифровальщиках и о науке криптографии, происходящий в двух временных пластах: во Второй мировой и в современности 1999 года. При этом не надо ждать, опираясь на досужие мнения и вымученные аннотации, что нам расскажут о некой таинственной ложе криптографов, которая издревле управляет миром, рассылая главам государств из своего недосягаемого футуристического киберлогова в глубинах Земли зашифрованные послания (неплохой сюжетец я сейчас набросал, пишу двенадцать томов «Шифродеев»). На самом деле «Криптономикон» – роман о людях. Просто проживающих каждый свою жизнь и сугубо по-людски преодолевающих подкинутые ею препятствия и фантастического там – кот наплакал. Однако это одна из самых увлекательных книг, что я читал за всю свою жизнь.
В моем понимании Стивенсон намеренно некоторым образом искажает свое «повышение» по авторской романной лестнице: после милых, понятных и в основе своей однозначно фантастических двух предыдущих романов в «Криптономиконе» городит нечто несусветное, некую максимально переусложненную конструкцию, где пугливый неподготовленный читатель может легко увязнуть и затеряться в водовороте имен, локаций, реалий и огромных научных выкладок со сложными формулами и графиками, посвященных, внезапно, ухаживанию за девушками. Но справедливо будет упомянуть, что ближе к концу первой трети романа этот хаотический водоворот выстраивается перед читателем в строгий упорядоченный самовоспроизводящийся фрактал и читательское смятение потихоньку отступает.
В «Криптономиконе» на полную включается авторский мощный аппарат постиронии, слегка задействованный в прошлых книгах, перенятый Нилом у Томаса Пинчона из его легендарного монструозного романа «Радуга тяготения» и прочих. Суть этой постиронии в том, что искренность в тексте становится трудноотличима от иронии, затем происходит едва уловимый переход от иронии к серьезности, что перерабатывает постиронию в вид «новой искренности». Что, в свою очередь, ближе к концу первой трети романа приводит в действие у читателя мощный механизм эмпатии к действующим героям, поначалу представлявшимся чуть ли не математическими функциями. У Пинчона такие приближения к фигуркам на доске были крайне редки. А новая искренность – штука сугубо из девяностых. Именно поэтому читатель иногда теряется, не понимая намерений автора.
Как подготовить к таким поворотам читателя, я не знаю. Почему я с бухты-барахты разобрался и преодолел «Криптономикон» еще ДО чтения «Радуги тяготения»? Наверное, имела место некая «подготовка» усложненными постмодерновыми романами более традиционной направленности, нежели Пинчон: «Маятник Фуко», «Баудолино» профессора Умберто Эко; «Бледное пламя» Набокова; «Под местным наркозом» и «Из дневника улитки» Гюнтера Грасса; «Голубое сало» Сорокина – книг, которые учат читателя несколько по-иному воспринимать текст, чуть усерднее вгрызаться в него. Хотя, никакой определённости в читательских делах быть не может – уверен, существуют читатели, которые смогут воспринять «Криптономикон» с чистым неподготовленным разумом, как есть.
Что удивительно, после нескольких лет «Криптономикон» вовсе не воспринимается громоздким переусложненным романом, в памяти остаются не тайны криптографии и не события Второй мировой. Даже условные «исторические» персонажи отодвинуты автором на второй план (хотя с биографией Алана Тьюринга все же следует поверхностно ознакомиться отдельно), чтобы не слишком засвечивать жизни главных героев – обычных людей – главенствующих в сюжете.
В ранних романах заметно, что Нил намеренно сокращает экспозицию, урезает свои научные лекции, многого не объясняет и набрасывает некоторые сюжетные линии и события лишь парой штрихов. «Криптономикон» – первый из ряда «больших» романов Стивенсона, после которого он достиг высочайшего разряда литературного мастерства, перестал ограничивать себя какими бы то ни было рамками и стал развлекаться по-крупному.
В качестве примера постиронии приведем занимательный факт: в феврале 2018 года на сайте Amazon продаются выпущенные в 2001 лицензионные аудиокассеты с начиткой отрывков из «Криптономикона». Б/ушная аудиокассета стоит порядка $650, новая – 1450 североамериканских долларов.
THE BAROQUE CYCLE: QUICKSILVER (2003), THE CONFUSION (2004), THE SYSTEM OF THE WORLD (2004)
У каждого века есть свой великий роман, одновременно являющийся opus magnum создавшего его автора. Естественно, что читатели, издатели, критики и СМИ выберут в этой категории несколько разные книги, но давайте попробуем на глаз прикинуть такую небольшую подборку:
XVII век – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Сервантес – отец современного романа, в буквальном смысле создавший жанр, пересобрав по косточкам предшествовавшие ему образцы рыцарских романов, почти постмодерново, сатирически и трагически вывернув их, вдохнув в них новую настоящую, не сказочно-мифологическую жизнь;
XVIII век – вполне возможно, «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо». Дефо создал одну из первых в мире литературе сенсаций и бестселлеров, породив одновременно несколько жанров и создав мощнейший пласт возможных трактований для потомков;
XIX век – «Война и мир». Пожалуй, до сих пор один из самых великих как по масштабам действия, так и по затронутым проблемам образец романного мастерства. Толстой не стесняется своей гигантомании, осознает ее, холит и лелеет, без малейшего сомнения и сожаления переписывая начисто огромные негодные куски текста, добиваясь его идеального энциклопедического состояния;
XX век – несомненно, «Улисс», роман, низринувший литературу с помпезных высот удовольствия для избранных в болото простонародья, здоровой пошлости, низменной прекрасной похоти. Незабываемая катастрофа — безмерная по смелости, страшная по разрушительности;
XXI век… в Музее научной фантастики в Сиэтле, штат Вашингтон, находится один очень интересный экспонат: за стеклом в закрытой витрине лежит огромная исписанная пачка бумаги толщиной в семнадцать тысяч листов.

Это манускрипт Барочного цикла, написанного Нилом Стивенсоном от руки перьевой ручкой. Огромный роман в трех томах, вышедших в 2003-2004 годах по своей сложности, информативности и увлекательности – пока что суммарно лучшее из написанного Стивенсоном. Началась эта история еще в эпоху «Криптономикона», который Нил замышлял выполнить не в двух, а в трех временных пластах: добавить еще и приключения предков современных героев на рубеже XVII – XVIII веков, во времена расцвета гениев Ньютона, Лейбница, всех участников Лондонского королевского общества. Но тогда «Криптономикон» вышел бы чересчур уж сложной и неподъемной работой. Ха-ха, кто бы опасался. Сам Стивенсон говорит, что принял решение писать новый цикл перьевой ручкой на бумаге в надежде, что это заставит его хоть немного попридержать коней. Не вышло.
Центральной темой Барочного цикла является уход Европы от феодального права к более рациональным, наукоемким системам управления, экономики и социального развития. Трилогия вдохновлена книгой историка науки Джорджа Дайсона «Дарвин среди машин» (1997), а точнее одним утверждением оттуда. Дайсон именует Готфрида Лейбница основателем математической (либо символической) логики как универсального научного языка. В 1666 году Лейбниц рассмотрел этот вопрос в работе «Искусство комбинаторики» а позже, независимо от Ньютона, с которым долгое время находился в эпистолярной естественно-научной полемике, создал математический анализ да и, собственно, описал современную двоичную систему счисления, основанную на гексаграммах из китайской «Книги перемен». Плюс ко всему Лейбниц в 1673 году создал первый в мире механический арифмометр, задуманный с целью облегчить вычисление астроному Христиану Гюйгенсу. Этими подвигами Лейбниц и обратил на себя внимание Стивенсона, присовокупившего к нему Ньютона, бывшего в последние свои годы хранителем Тауэрского монетного двора, и поставившего эту парочку в один символический ряд исторических фигур наравне с Аланом Тьюрингом из «Криптономикона». Собственно, что «Криптономикон», что Барочный цикл – это, по Стивенсону, книги «о деньгах и компьютерах».
Подробнее о Лондоне времен Ньютона и о документальных событиях, положенных в основу сюжета «Системы мира» Стивенсона, можно прочитать в книге Томаса Левенсона «Ньютон и фальшивомонетчик» (2009). Левенсон, преподаватель научной журналистики Массачусетского технологического института, повествует о том, как Ньютон сменил жизнь свободного кембриджского философа на должность хранителя лондонского Монетного двора и о его реформах в чеканном деле, что косвенно даже повлияло на заключение мира с Людовиком XIV в 1697 году.
Мысль о компьютерах, да и о «машинах» вообще, давшая название вдохновившей Стивенсона книге Дайсона изначально появилась в одноименной статье Сэмюэля Батлера «Дарвин среди машин», опубликованной в Новой Зеландии в 1863 году. В статье поднимается вопрос о том, что машины сами по себе – это абсолютно новый вид так называемой «механической жизни», который угрожает когда-нибудь отнять у людей право господства на Земле. Батлер поднимает первые вопросы технологической сингулярности – гипотетического момента, когда технический прогресс станет самовоспроизводящимся и недоступным пониманию и участию человека. Стивенсон, конечно, эти наивные опасения XIX века не разделяет.
Не стоит, однако, думать, что огромная Барочная трилогия посвящена лишь воспеванию Лейбница и причастных ученых. В «Ртути» мы станем свидетелями взросления гения Исаака Ньютона, понаблюдаем за осадой Вены турками в 1683 году. В «Смешенье» побываем в Индии и в Японии. В «Системе мира» встретим Петра I, Людовика XIV и поприсутствуем при испытании первых паровых машин мистера Томаса Ньюкомена.
Все знают, что есть химия и алхимия, астрономия и астрология, история и лжеистория. Нужно быть готовым к тому, что романы Стивенсона – всё-таки художественная проза, в которой немало неподтвержденных анекдотов и откровенной криптоистории. Но совсем уж откровенной «альтернативной» истории у Нила нет – эльфы не влияли на мировую политику, гномы не ковали монеты, сильфиды не дарили людям идеи воздушных шаров и паровых машин. О причинах, косвенно повлиявших на создание Барочного цикла, рассуждал Джеймс Морроу, известный русскому читателю по посттеистическому роману «Единородная дочь». Морроу вспоминает, что во время написания романа «Последний охотник на ведьм» (2006), затрагивающего вопросы научного мировоззрения Ньютона, редактор романа поведал ему о пару слухов о других готовящихся к печати книгах, авторы которых тоже используют Ньютона и Франклина как художественных персонажей. Речь шла о Барочном цикле Стивенсона и о цикле Грегори Киза «Век безумия» (цикл Киза открылся в 1998 году романом «Пушка Ньютона»). Морроу говорит, что нечто витало в воздухе на рубеже XX-XXI веков, что заставило закоренелых фантастов обратиться к сугубо научным персонажам, исследовать и показать читателям корни возникновения научного, не религиозного взгляда на современный мир. Одной из причин этого Морроу приводит феномен некоторых метафизических и эзотерических учений, в девяностых набравших особенно большие обороты, критикуя научный миропорядок и вываливая на книжные прилавки сотни книг по фэншую и самолечению. Ерундистика эта вызывала закономерную критику со стороны научных кругов, и в 1996 году профессор физики Нью-Йоркского университета Алан Сокал опубликовал сатирическую статью «Переступая границы: к вопросу о трансформативной герменевтике квантовой гравитации», в которой, обсуждая текущие проблемы математики и физики, в ироничном ключе перенес их следствия в сферу культуры, философии и политики. Статья таким образом нарочно представляла пародию на философские междисциплинарные исследования и была лишена какого-либо научного смысла. Однако журнал Social Text опубликовал ее, приняв за чистую монету, в спецвыпуске, посвященном научным войнам, как ответ на выступления отдельных ученых против постмодерна и релятивизма. Чуть позже Сокал раскрыл мистификацию, объяснив, что статья была «обильно приправлена полной чепухой» и опубликована лишь потому, что льстила «модным и прогрессивным» идеологическим предубеждениям редакторов журнала. В 1997 году Сокал на основе своей статьи-мистификации опубликовал совместно с физиком Жаном Брикманом книгу «Интеллектуальные уловки: критика современной философии постмодерна», в которой критиковалось некомпетентное и претенциозное употребление научных концепций и терминологии, а особенно идея о том, что современная наука есть не более чем «миф» или «социальная конструкция».
Так вот, прерогативой Стивенсона и по сей день, помимо сочинения зашибенных историй, является популяризация среди населения науки как таковой, научных концепций, определивших ход развития современной цивилизации. Барочный цикл можно воспринимать как приключенческое, плутовское, историческое, авантюрное сочинение, но несомненно одно: сила заключенных в нем научных концепций; поиск истины в споре между двумя системами мироздания – Ньютона и Лейбница; несомненно удавшаяся попытка дать во всей полноте картину Европы накануне отказа от религиозного миропонимания и обращения к разуму как к единственному критерию познания человека и общества, накануне перехода к эпохе Просвещения и начала практического использовании достижений науки и экономики в интересах общественного развития – все это делает сочинение Стивенсона одним из главных в мировой литературе начала XXI века.