Михаил Свердлов: «Филология красиво вошла в мою жизнь»
Magisteria
— В «Википедии» написано, что вы российский литературовед, историк литературы, кандидат филологических наук. А кем бы вы себя назвали? Кто вы прежде всего?
— Я филолог, специалист по интерпретации текста. Это значит, что моя специализация, моя цель, мое магистральное направление в филологии — это работа с текстом. Любым. Я интерпретатор. Я беру текст любой эпохи, любого объема, любого жанра, и я готов анализировать его, используя контекст, изученную литературу, некие знания и чужие идеи, или с нуля, исходя только из самого текста. Моя задача — это интерпретация. Как задача следователя — это расследовать, задача химика — изучать свойства и взаимодействие химических элементов, так мое дело — это изучать тексты. Какие-то тексты я изучаю больше, какую-то национальную культуру я знаю лучше. Но я всегда с готовностью принимал заказы, брался за неизвестный материал, исходя из того, что надо интерпретировать новые и разные тексты. Вот моя установка.
— Какие наиболее необычные тексты вам доводилось анализировать?
— Ну, я вам только диапазон скажу свой. Мне приходилось, например, писать в учебник для школьников главы об античной трагедии и комедии, об античной драме, и мне приходилось писать критические статьи о писателях 1980-90-х (Пелевин, Сорокин, Лимонов, Виктор Ерофеев), то есть диапазон от античности до современной литературы, вот так.
— Очень много веков культуры.
— Да. И это не значит, что я являюсь знатоком античности. Я не являюсь античником, я не знаю древних языков, но я берусь анализировать и это. Я берусь за это, можно сказать, с элементами волюнтаризма, а можно сказать, что отважно, и готов вырабатывать концепции, связанные с этими текстами. Поскольку я связан с академической наукой, я сотрудник академического института, Института мировой литературы, я работаю в престижном вузе (Высшая школа экономики), с очень хорошим составом филологов на нашем факультете, разумеется, у меня есть те темы, где я являюсь специалистом. Ну, например, английская поэзия с XVII по XX век. Я специализировался на этом, диссертацию писал именно об английской поэзии. Или, скажем, Достоевский. Или детская английская литература. Есть темы, где я стучусь в дверь передней, и дальше нее мне не пройти. Я не имею возможности глубоко освоить предмет. Я полагаюсь на любимых филологов, которые помогают мне прочувствовать текст, то есть мне нужны проводники, полагаюсь на интуицию, на некие догадки о природе древнего текста и отважно анализирую, сочиняю концепции. Мне кажется, что такой прорывной метод-штурм тоже имеет право на существование в маргинальных жанрах, потому что глава в учебнике — это маргинальный жанр. Я не пишу специальные статьи в специальные журналы. Я не позиционирую себя как филолога-классика. Но на эту территорию я захожу в тех жанрах, где это возможно. Я много консультировал, помогая студентам, я читал лекции по античности. Можно сказать, что античная литература — это мое хобби, сфера моих увлечений. В моей самонадеянности мне кажется, что я кое-что в этой эпохе и в этих текстах понимаю, у меня есть свой секрет.
Так же отважно я брался за современный материал, писал критику, публиковал в журнале «Вопросы литературы», где я раньше работал. Я часто брался и писал именно о тех текстах, которые мне не нравились. Пелевина я невзлюбил сразу, Лимонова — еще больше. Но что же делать? Я читал внимательно, с карандашом в руках, искал, какими методами можно осваивать неприятный, скажем так, неинтересный для меня материал, как можно к нему подойти.
Последний опыт — мы написали с Олегом Андершановичем Лекмановым интересную книгу, она сейчас в издательстве Елены Шубиной. Это сборник послевоенных рассказов, советских по большей части (или постсоветских), в которых главным героем является ребенок-подросток. После каждого рассказа идет филологический анализ. Наконец я выступил в любимом жанре: есть один рассказ, и надо его проанализировать. Здесь я чувствую себя как рыба в воде. «Уроки французского» Распутина, скажем, «Игры в сумерках» Трифонова — вот это был материал для анализа. Я анализирую не только прозу, но и стихи, не только русские, но и английские. Так что много что было сделано на этом поприще. Не только рассказы, но и романы.
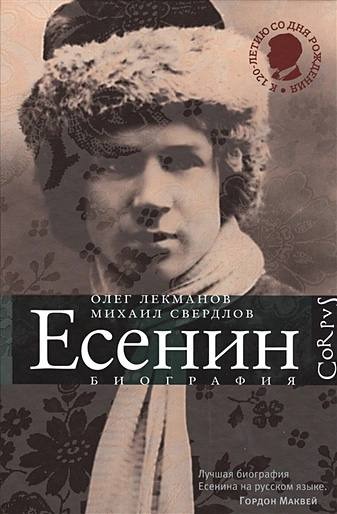
— Как вообще в вашу жизнь вошла филология?
— Красиво. В 16 лет (это было в 1982 году) я почувствовал какую-то острую неудовлетворенность жизнью, очевидно, связанную с переходным возрастом. Я физически почувствовал этот слом. У меня наступила полоса полудепрессии. Для меня это что-то немыслимое. Тосковать я не умею, не люблю, и это не входит в химический план моей жизни, что называется. Я очень остро переживал, но дольше месяца тосковать я точно не мог, и мне нужно было что-то сделать. И тогда я вдруг сам для себя в высшей степени неожиданно сказал себе: «Теперь я знаю, что мне делать». «Я буду филологом, — сказал я, — я буду заниматься английской литературой, и я непременно чего-то добьюсь на этом поприще, я всем покажу». Я дал такую клятву.
Как у Герцена и Огарева была знаменитая клятва на Воробьевых горах, у меня была клятва в поселке Заветы Ильича, где была дача моего друга. Видите, как символично. И, вы знаете, я был до этого таким бездельником, неопределенным асоциальным ребенком, которому не хотелось взрослеть. Я считаю, что из этой ситуации я вышел наилучшим образом.
Мне страшно повезло: с 16 лет я знаю, чего хочу. Мои приоритеты не изменились. Я обожаю филологию, и, как бы я ни уставал от нее, моя любовь есть константа. Так что любить, хотеть, верить в себя – и все на самом деле настроится.
— Это очень красивая история. Вы сказали, что когда нужна помощь с источниками, то вы обращаетесь к проводникам. И хочется узнать, кем были ваши проводники — из ваших непосредственных учителей, у которых вы учились, и из тех, кого вы узнали по книгам?
— Что касается непосредственных учителей, здесь были сплошные разочарования. Я поступил в институт. Меня поразил низкий уровень преподавания: система сгнивших готовых значений, в общем, разврат и декаданс, когда соединились скука и полное равнодушие к смыслам. Но я очень искал своего преподавателя, потому что я уже знал, что я буду филологом, знал, что это мое поприще. Мне нужен был научный руководитель.
Я наконец нашел его, блестящего, яркого преподавателя и исследователя, Игоря Олеговича Шайтанова. Если бы не он, мне пришлось бы туго во всех отношениях. Молодому человеку нужен наставник. Сам он все не сделает. Нужен кто-то, кто подскажет, поможет, другая голова, кто-то, кто находится выше иерархически, кого можно уважать и кому хочется доверять. Я все-таки получил это в лице Шайтанова. На старте он меня очень выручил и дал мне некий импульс. Вот и все. Больше я среди наставников никого не числю.
Мы и с Шайтановым быстро разошлись. Так часто бывает, когда зубастые ученики, которые ищут свои идеи, свой подход, расходятся со учителями и начальниками. Так произошло и у меня. Я ушел в автономное плавание. Но без моего руководителя, может быть, ничего бы и не было. Он очень был нужен, просто как воздух. Еще очень важно, чтобы была своя среда у студентов. Какое-то вовремя сказанное слово, имя. Студенты дали мне много, в сумме гораздо больше, чем преподаватели.
Но все же, если подводить итог вот этому личному контакту, я «самоделан». Да, без людей невозможно состояться. Это ясно, что тут говорить. «Никто из людей не остров», и я всегда остро нуждался в людях. Но все-таки по большей части учился я сам. Читал, искал и, конечно, учителями своими прежде всего я считаю тех, кого читал.
Стилистической дисциплине я учился у Михаила Гаспарова, полету мысли — у Льва Пумпянского, сопряжению неожиданных идей — у философа и филолога Якова Голосовкера, а научной эвристике, динамике мысли — у Юрия Тынянова. Вот, пожалуй, четыре главных имени для меня. Очень разные, плохо совместимые филологи.

Как-то мне случилось общаться с Гаспаровым, и он меня спросил: «Чем Вы занимаетесь?» И я начал бойко и самонадеянно (это вообще, видимо, мое качество) говорить Гаспарову: «Я занимаюсь английской поэзией и пытаюсь совместить методы Пумпянского и Тынянова», — сказал я ему. Гаспаров в своей манере — он заикался, но и заикаясь был чрезвычайно язвителен, — сказал следующее: «А какая, извините, у Пумпянского была методика?» И этим вопросом он высказал мне все, что думал по этому поводу. Гаспаров никакой методики у Пумпянского не подозревал и очень скептически отнесся к моему смелому юношескому заявлению. Но, разумеется, я не передумал с тех пор и при всем огромном уважении к Гаспарову остаюсь при своем убеждении: методика у Пумпянского есть, разумеется, какая бы импрессионистическая она ни была.
Я думаю, что надо миксовать, соединять, не надо быть последователем одного какого-то направления, особенно одной терминологической системы. Надо искать свое на границах. Моя задача — это выработка оригинальной методики, чтобы мой почерк чувствовался, чтобы я говорил не то, что обязательно лучше других, но обязательно то, что другие не скажут. Это инстинкт любого, кто ищет свое место. Получилось или нет, не мне судить. Но по крайней мере мне до сих пор интересно.
— Если бы Вы могли встретиться с любым писателем из любого времени, кто бы это был?
— Я бы хотел встретиться со Стивенсоном. Это мой кумир, самый недооцененный из великих писателей. Разумеется, потом я бы пожалел, наверное, потому что ну а как же Пушкин, это как встреча с Богом. Но нет, Стивенсон. Просто потому, что сочетание его человеческих и писательских качеств располагает к беседе с ним, скажем так.

— Как раз про человеческие и писательские качества. Наш с вами общий друг Ролан Барт говорил, что автор умер. Как вы думаете, мы можем добавлять личностные качества писателя в наше отношение к его творчеству или все-таки лучше от этого абстрагироваться?
— Мало ли что Барт сказал. Он был не только философом, не только филологом, но и журналистом, да еще и французским журналистом. Для человека, который так много писал, откликался на злободневное и был все время в тренде, очень важно вовремя что-то сказать, вбросить, спровоцировать. Неужели мы всему должны верить? Особенно когда дело касается послевоенного рокового теоретизма, «демона теории», как выразился Антуан Компаньон, меньше всего нам нужно верить и слепо следовать за какой-то идеей. Ну, это замечательный провокационный вброс. В этом есть что-то, разумеется, с этим надо разбираться. В одних текстах есть установка на смерть автора, порой лукавая, кстати: вот он умер, умер, умер, умер, а потом выясняется, что он живее всех живых. А у других авторов, наоборот, личностное начало проявляется без стеснения. Вот нам является Эдуард Лимонов. Там только один автор и есть. Там ничего больше нет. Литературы нет, литературного приема нет, композиции нет, ничего из того, что принято считать литературой, нет. Есть только одна бесконечная личность автора.
Кризис современного мира заключается не в том, что что-то умерло, а в атомизации и распадении на острова: это мультиситуация, это множество миров, множество систем, отсутствие единого договора, круговой поруки вкуса и мастерства, как говорил Вейдле. Дезориентация: вообще непонятно, куда смотреть, что любить. Отсутствие договорного общего критерия. Вот это кризис, а не то, что что-то умерло. Фигуративная живопись не умерла. Лирическое начало не умерло. Рифма — хороните на здоровье, но она не умирает. Ничего не умирает, но все делится, распадается, один остров делится на два и каждый новый — еще на два. Понимаете? Все уже становятся кружки и шире разветвления. Одним словом, это такой действительно пористый мир, мир ризомы, переплетения разного, лабиринтный мир, в котором очень трудно ориентироваться.
Ну, разумеется, в качестве лозунга он звучит отлично. Ницше сказал: «Бог умер». А Барт сказал: «Смерть автора». Такие лозунги очень хорошо запоминаются. Но мне почему-то не хочется таких лозунгов. Не хочется играть с тем, что касается бессмыслицы, смерти чего-либо, отмирания. Я смысловик. Мне интересно все, что имеет смысл. Я хочу все раскладывать по полкам, объяснять. Я хочу искать позитивное начало смысла во всем. «Смысла я в тебе ищу», — сказал Пушкин. Вот это наш завет. Если сейчас трудно, если мы в кризисе, вот тогда-то и нужно искать смыслы. А сеять хаос, продолжать раздирать материю смысла, мыслить дискретно и прыгать от одного к другому и танцевать, как выражался Гаспаров о постмодернистах, «бесконечный танец», нет, неинтересно. И я Барта очень ценю, считаю выдающимся совершенно интеллектуалом и блестящим эвристом. Но что касается смерти автора, учитываю, благодарен за яркий лозунг, но, как Станиславский, не верю.
— Тогда как раз можем поговорить о бессмертном. Есть ли, по вашему мнению, авторы, которые забыты совершенно несправедливо? Если да, то кто приходит на ум?
— Юрий Казаков. Я считаю его самым выдающимся прозаиком второй половины XX века. Я с почтением отношусь к Битову, с уважением — к Аксенову. Разумеется, все это величины, их нельзя выбрасывать, это понятно. Но неужели Казаков хуже Битова и Аксенова? Аксенова и Битова знают все — Казакова знают только избранные. Зато как они любят его! Есть удивительный феномен: малоизвестных писателей любят сильнее всего.
Скажем, я обожаю такого писателя, как Торнтон Уайлдер. Разумеется, писатель известный, его все знают более-менее. Но, слушайте, разве можно сопоставить репутацию Уайлдера с Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, со всеми большими американскими писателями? Да ни в коем случае, он явно маргинальное положение занимает по сравнению с ними. Для меня он неизмеримо выше всех. Это величайший писатель XX века, репутация его явно занижена. Но зато все, кто прочитали его, его любят, это любимый писатель для немногих.
То же самое – Стивенсон. Спроси любого прохожего, что он скажет о Стивенсоне? Что это детский писатель. Стивенсона не читают, не знают вообще, кто он такой, ограничиваются смутным представлением об «Острове сокровищ». Редкая птица, которая перелетела Днепр, скажет, что есть еще «Джекил и Хайд». Всё, понимаете? А это великий писатель.

Кто более известен, Оскар Уайльд или Стивенсон? Конечно, Оскар Уайльд. Оскара Уайльда знают все. Оскар Уайльд — интересная, яркая жизнетворческая личность, но никак не писатель больших форм. Какой там роман «Портрет Дориана грея»? Из тех достижений, которые я числю за собой, есть анализ «Портрета Дориана Грея», где я на пальцах показываю, что это плохо написано, и намекаю, почему это плохо написанное произведение все-таки имеет такую невероятную популярность. Раньше Уайльда в Англии не очень любили, а сейчас и там его культ. Понимаете, он победил время. Литературные репутации — очень прихотливая вещь. Не всегда здесь срабатывает принцип справедливости.
Я считаю заниженной репутацию Проспера Мериме, великого французского писателя, но сознательно негромкого, и это ему повредило. Кто громче кричал, тех лучше помнят. Гюго очень громко кричал, Бальзак был громким писателем. История благодарна им за это. Они заслужили это в высшей степени, оба, великие писатели, нет слов. Но Мериме, у которого лучше вкус, лучше стиль, глубже понимание, говорил тихо, и от него осталось мало. Чаще всего знают «Кармен», и то благодаря опере. Таково положение вещей, иерархия, принятая в истории литературы. Канон не всегда совпадает, по-моему, с реальными достижениями писателей.
Если взять совсем кого-то забытого — никто не знает великого английского поэта Джерарда Мэнли Хопкинса. Сама фамилия ничего никому не говорит. И он непереводим. Эту ситуацию трудно исправить.
— Какое произведение из уже прочитанных вам бы хотелось снова прочитать как в первый раз?
— «Иосиф и его братья» Томаса Манна.
— Почему именно его?
— Это одно из самых жизнеутверждающих произведений именно в отталкивании от кризиса, от смуты и в движении к смыслу и радости бытия. Это терапевтическое чтение, полезное для жизни. Хочется читать что-то полезное для жизни. «Иосиф и его братья» из таких книг.
— О полезном: зачем нам вообще литература? Что будет без нее? И каким бы, по-вашему, было бы человечество, если бы у него не было литературы?
— Человечества не было бы без литературы. Литература — это система аккумуляции памяти и смыслов. Человек — это смыслопорождающая машина. Лучший способ порождения смысла из всех выдуманных — это литература. Так что же мы будем делать без литературы? Мы схлопнемся. Мы потеряем себя.
Что происходит с человеком, который теряет ориентир, у которого возникает дефицит смысловой базы? Он начинает сходить с ума. Он впадает в депрессию. У него начинаются психические отклонения. Он не может найти себя. А литература — это центрирующий момент, это момент ориентирования в мире.
А что такое чтение? Это постоянная тренировка смыслопорождающих и смыслоинтерпретирующих способностей человека, это гимнастика. К чему приводит атрофия смысловой сферы? К полной незащищенности. Человек превращается в организм, который просто реагирует на раздражения. Он легко подчиняется каким-то влияниям извне. У него нет сопротивления, нет критического мышления, нет своего мнения. Он весь в суевериях и предрассудках, в тревогах и в воздействии изобретенных для себя демонов. Чтение — великолепная защита от хаоса, окружающего нас. Если эту защиту снять, может, кому-то повезет, у кого-то прекрасный организм, замечательный внутренний химический состав, и он всегда будет радоваться по своей природе. Но таких все меньше и меньше. Без чтения нет сопротивления, и человек уступает хаосу. А это ни к чему хорошему не приводит.
Разумеется, это не значит, что все должны читать. Так никогда не было и никогда не будет. Большинство читать не будет. Но обязательно должно быть читающее меньшинство. Вообще здоровое общество определяет меньшинство. Меньшинство — это активная часть. Читающих меньшинство, любящих прекрасное меньшинство, философствующих меньшинство, задумывающихся о смыслах меньшинство, но они определяют динамику, они определяют эволюцию человека. Если это меньшинство будет убывать, если эта пропорция будет меняться в худшую сторону, вот тогда с человеком будет происходить эрозия, постепенная деградация.
Люди предпочитают пассивное времяпровождение активному. Ну, допустим, самое примитивное — это чаты, компьютерные игры. Я ничего против чатов и компьютерных игр не имею. Это сложное явление, как все, явление амбивалентное, но это очень опасно. Все, что касается прогресса, всегда опасно. Это всегда новое, и человек всегда к этому недостаточно адаптирован. Во всяком случае это то времяпровождение, когда кто-то ведет тебя. Чтение — это активная форма времяпровождения. Мозги включены. Человек участвует в том, что он делает. Он проявляет активность в другом мире. Он расширяет сознание.
Я реалист. Читать всегда будет меньшинство, и оно будет уменьшаться, но литература обязательна для эволюции человечества, в любой форме. Пускай люди начинают слушать аудио, пускай какие-то будут новые и новые формы восприятия текста, ладно. Это хуже, но это тоже вариант. Но без нее никак, без литературы. Вот мое мнение.
— А вы когда-нибудь играли в компьютерные игры? Бывают очень умные, тонкие и даже литературоцентричные игры.
— Нет. Но я не настолько старый бурбон, чтобы одной меркой мерить то, что я не знаю, о чем я могу только догадываться. Но я просто видел этих юзеров. Я видел людей, которые слишком много сидят за компьютерами. Но я бы и не советовал молодому человеку современному вообще отказываться от компьютерных игр. Я считаю, что он должен держать руку на пульсе. И поскольку это активно развивающаяся сфера, там наверняка будут открытия и прорывы, это ясно. Я не играю не потому, что презираю компьютерные игры, но потому, что моя занятость пока не позволяет мне осваивать новые формы досуга. Лучшее, что я могу сделать в современной ситуации, это следить за сериалами. И там, конечно, нас тоже ждут открытия и очарования.
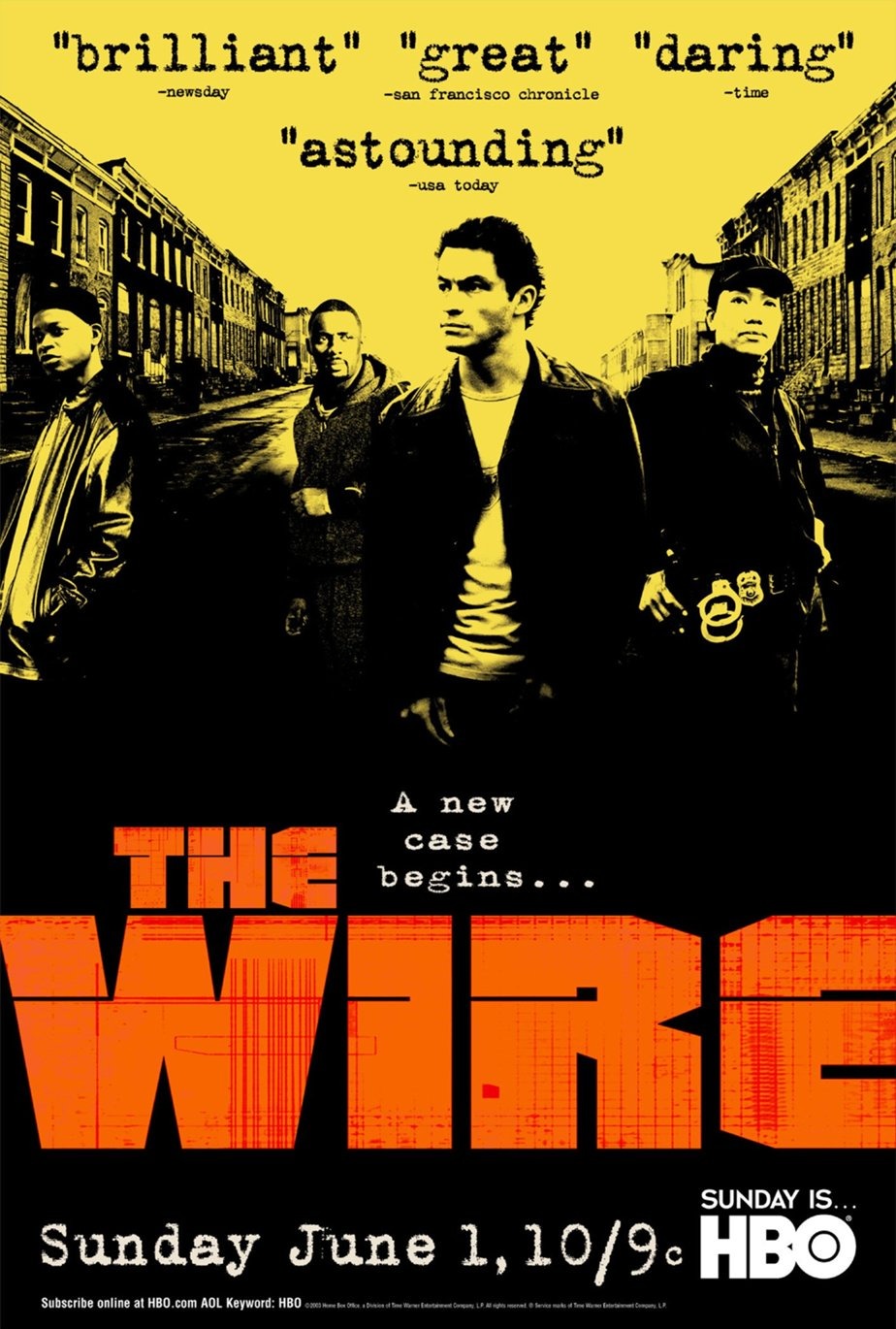
— Какой сериал стал для вас открытием?
— «Прослушка». Это абсолютно гениально. Это настоящее открытие. И это очень современно. Что значит «современно»? Это значит, там сказано то, чего не говорилось раньше, но что должно было быть сказано. Каждое время имеет шанс сказать что-то, чего не говорили предыдущие поколения.
Например, предыдущие поколения постоянно сводили нашу человеческую проблему к проблемам сословным, классовым, к проблемам богатых и бедных. Весь итальянский неореализм на этом построен. Но неужели наши человеческие проблемы этим ограничиваются? И вот в 90-е годы появилось, например, кино, в котором все, что касается еды, элементарного достатка и жизненных удобств, все эти проблемы решены, и только тут начинаются по-настоящему человеческие проблемы по ту сторону противоречий богатых и бедных, по ту сторону социальной несправедливости. Раньше об этом сказать не могли, не получалось. И проблемное кино было политизированным. В 90-е произошла деполитизация проблемного кино. Вот, пожалуйста, это было современно.
Что современно сейчас, еще не вполне ясно. Эта перспектива еще туманна, но, безусловно, что-то новое надо сказать. Поэтому надо, конечно, держать руку на пульсе событий. Так что поигрывайте потихоньку. Будете за нас играть тоже, за стариков.
— Игры часто обвиняют в развитии эскапизма. А чем активное, смыслосозидающее чтение отличается от эскапизма, когда ты просто спрятался в тексты и сидишь в них, как в домике?
— Эскапизм — такая же допустимая позиция в мире, как и любая другая. Человек имеет право прятаться. У него могут быть противоречия, нелады, он может поссориться с окружающей реальностью. Значит, надо дать ему возможность спрятаться. Настоящий эскапист — человек творческий. Чтобы спрятаться, нужно по крайней мере ощутить свое присутствие в другом мире. Для этого необходимо воображение. Для этого необходимо подключение творческого начала. Если человек поттероман или толкинист, и он весь в игре, в этом придуманном мире, да, это несколько ограничивает, сужает сознание, лишает каких-то возможностей, но это не пассивная позиция. Эскапизм — активная позиция: «Я хочу быть в этом мире, мне здесь комфортно». Но, чтобы быть в мире, надо его доделывать, достраивать, надо в нем участвовать. Так что эскапизм я считаю допустимой формой смыслового выбора, что ли, ну, несколько рискованной и, может быть, не лучшей, но допустимой.
Скажем, явный эскапизм проповедовал мой любимый Стивенсон. У Стивенсона была идея, что человеческая история — это бред, что всякое развитие ведет к худшему. Он это и показывает все время. Ничего хорошего из человеческой истории не выходит у него. И эскапизм — это нормальный выход для нормального человека из исторического бреда, из чудовищной бессмыслицы истории. Вот, пожалуйста, пример эскапизма.
Стивенсон взял и уехал на остров в Океании, построил там что-то среднее между тропическим бунгало и шотландским замком, одел местных островитян в килты и стал отцом родным для всех окружающих поселков, потому что у него были деньги. Мог позволить себе вот этот вальтер-скоттовский жест, то есть «Я такой лерд шотландский, но только на островах, я всем благодетель и играю в такую райскую жизнь, соединяю шотландское с приморским островным раем».
Что я могу сказать? Я в восхищении от такого эскапизма. Это зависит от творческого потенциала человека. Он может устроить великолепный и какой-то очень поучительный эскапизм, а может устроить убогий. Он может идти в этом эскапизме по чьим-то следам, быть в рабстве у кого-то. Но во всяком случае благословляю любого эскаписта. Во мне это тоже есть. Я это преодолел, избавился от этого, но в детстве я точно был эскапистом. Через филологию я ушел от этого и преодолел. Но я знаю, что это такое.
— Какой у вас любимый курс на «Магистерии»? А то у вас их так много, и все такие хорошие.
— Какой любимый? Ну, наверное, я выбрал бы из трех. «Парадоксы русской комедии», такая целостная концепция, которая просто уже готовая книга. Второй – «Метафизика европейского романа», в котором получилось сделать несколько очень сложных разборов. Я убедился, что я отважный человек, взял и сходу проанализировал «Моби Дик» Мелвилла и «Будденброки» Томаса Манна. А третий — «Шедевры детской литературы». Он самый, как я знаю, популярный, и больше всего подписчиков именно у этого курса. Понятно, детская литература многих интересует. Это очень давно задуманная идея, первая, с которой я пришел на «Магистерию». Там много прорывов, и я очень доволен тем, что получилось сделать. Во мне бродили полусформированные мысли, полуидеи, и мучили меня. И вот я их высказал. Надо книжку сделать из этого, вот что я думаю.
— А дадите напутствие для тех, кто будет читать нас? Как быть хорошим читателем?
— Есть первая установка: не надо относиться к чтению как к удовольствию. Удовольствие — это не гарантированное качество товара. Удовольствие — вольная птица. Это всегда сопутствующее. То же самое, если ты влюбляешься в кого-нибудь. Разве ты делаешь это ради удовольствия? Ведь нет же. Ты идеализируешь свой объект. Ты влюбляешься в богиню. Пускай она и не является богиней, пускай вообще непонятно, что такое богиня, но для тебя в твоем идеальном представлении она приподнята над другими. Вот любовь. Любовь — это не удовольствие. Любовь — это напряжение всех смысловых центров. Разумеется, здесь много разочарований может быть, это ясно. Человек не оправдывает твоих надежд, и твоя идеализация срывается. Может быть, ты подстроишься. Может быть, ты научишься принимать его таким, какой он есть, и выстраивать новые замки идеализации. Кто знает?
Чтение — это проект, ты находишься не в пространстве удовольствия, а в пространстве удовлетворения. Ты удовлетворяешь свой скрытый или явный смысловой запрос. Соответственно, лучше всего устраивать чтение как обязаловку для себя. Ты осваиваешь какие-то литературные эпохи, жанры, ты читаешь что-то подряд, ставишь перед собой какие-то просвещенческие цели, воспитываешь себя, устраиваешь себе университеты. Вот это внешнее принуждение себя самого, та школа, тренировка самого себя. Никогда у тебя не будет хорошей фигуры, если не будешь делать зарядку. Чтобы делать зарядку, нужно издеваться над собой. Нужно уметь принуждать себя, но потом ты обретешь и легкость, и физическую свежесть, и самое главное — удовлетворение. То же самое с чтением. Это постоянная тренировка, превращение жизни в какой-то проект. Надо читать по возможности системно, а не бессистемно. Ну хорошо, бессистемно тоже можно, но всегда лучше системно. Всегда лучше учиться, читая, чему-то, что-то осваивать. Всегда лучше ставить перед собой цели. Жизнь становится осмысленнее и в конечном счете интереснее.
Я приведу вам один пример. В какой-то момент я стал ходить в музеи. Смотришь на эти картины как баран на новые ворота. Меня смущало, что все эти художники как-то ужасно одинаково называются: Корреджо, Караваджо, Карраччи, Карпаччо, Караччоло. И вот где там Караччоло начинается, а где Карпаччо, понятно, разница есть, но это так наваливается на тебя. Но ты все-таки идешь в музей в следующий раз, пялишь глаза, пытаешься что-то записывать, пытаешься что-то выяснить. И вдруг однажды ты приходишь в музей, и тебя встречают старые друзья: для тебя нет проблем отличить Корреджо от Караваджо, а Караваджо от Карпаччо. Созвучие этих имен не пугает тебя больше, а наоборот, эти имена связаны уже тысячами ассоциаций.
То же самое, если читать последовательно. Если это осваивать, то ты попадаешь в систему дружеских смыслов, и они все открываются и открываются перед тобой. Вот теперь я после долгих хождений и поисков в музеях, храмах, монастырских комплексах чувствую себя как рыба в воде, понимаете, в любом музее, в любом монастыре. Это результат тренировки. А ведь как начинающий любитель искусства я был в том же положении, что и любой начинающий читатель. Это не моя профессия, это чистое хобби. И сейчас я могу уже монетизировать это, я могу читать лекции по искусству, пожалуйста, но это не главное, и не это является моим стимулом.
Вообще лучше всего читателю стать специалистом, «домашним филологом», филологом для себя. Конечно, надо к этому стремиться. В любой деятельности ты получаешь удовлетворение от того, что ты освоил что-то, что ты в этом ориентируешься, что для тебя это уже не темный лес. Во всем нужна страсть, я хочу сказать. И даже не обязательно иметь страсть к книгам или, допустим, к физкультуре. Во всем нужна страсть делания себя, самосовершенствования. Все хорошее в нашем мире требует усилий и систематики. Если хотите жить в хаосе — пожалуйста, этого никто не запретит, но лучше взяться за себя. Книги — это один из способов.
Беседовала редактор Магистерии Елизавета Трофимова