Ласковая милашка любуется горизонтом лежа на песке
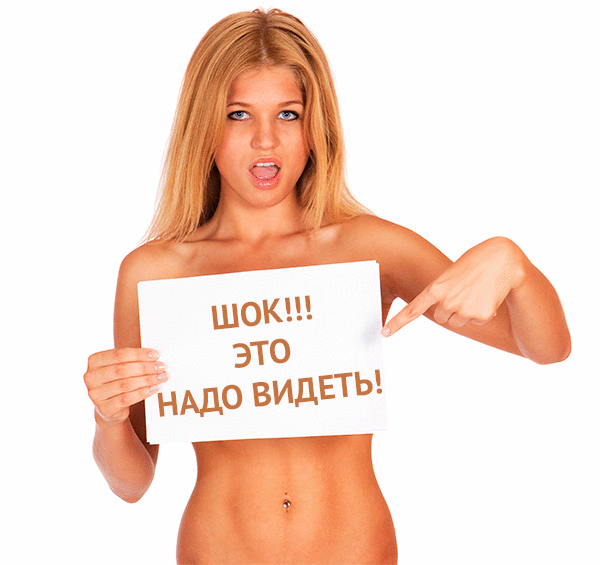
👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Ласковая милашка любуется горизонтом лежа на песке
В данной книге публикуется новый и, в сущности, первый адекватный перевод одного из известнейших романов Эриха Марии Ремарка, некогда самого популярного немецкого автора в России. Переводы, как известно, имеют печальное свойство «устаревать», прежде всего, с точки зрения лексики, особенно разговорной; да и переводческое искусство не стоит на месте, и то, что 50;60 лет назад вполне удовлетворяло неискушенного читателя, сегодня может показаться дилетантством. Многие русскоязычные версии зарубежных романов, изготовленные в середине прошлого века (часто наспех и далеко не всегда талантливыми переводчиками), кроме того, изобилуют смысловыми ошибками, не говоря уже о стиле, который нередко просто отсутствует. Не стал исключением и «Черный обелиск». Хотелось бы надеяться, что эта книга поможет роману обрести вторую жизнь.
Эрих Мария Ремарк
Черный обелиск
История одной запоздалой молодости
Перевод с немецкого Романа Эйвадиса
Не сердитесь, когда я говорю о «старых временах». Мир вновь озарился мертвенным светом апокалипсиса; еще не развеялись запах крови и пыль последней катастрофы, а лаборатории и фабрики уже вновь самозабвенно трудятся над спасением мира, изобретая оружие, способное взорвать планету.
Мир! Никогда еще не говорили о нем больше и не делали для него меньше, чем в наше время; никогда не было столько лжепророков, столько лжи, смерти, разрушений и слез, чем в нашем, двадцатом столетии, в эру прогресса, техники, цивилизации, массовой культуры и массовых убийств…
Поэтому — не сердитесь за то, что я возвращаю вас в те мифические времена, когда надежда еще реяла над нами, словно знамя, и мы еще верили в такие сомнительные понятия, как человечность, справедливость, терпимость и в то, что одной войны — достаточно, чтобы вразумить хотя бы одно поколение…
1
Солнце светит в окна конторы «Надгробные памятники. Генрих Кролль & сыновья». На дворе апрель 1923 года, и дела наши идут превосходно. Весна нас не подвела: мы успешно торгуем и именно поэтому разоряемся. Но что поделаешь — смерть неумолима и неотвратима, а человеческая скорбь нуждается в памятниках из песчаника, мрамора и — в случае особого чувства вины или внушительного наследства — даже из драгоценного, черного шведского полированного гранита. Осень и весна — лучшее время года для торговцев атрибутами скорби: в это время люди умирают чаще, чем летом или зимой. Осенью — потому что жизненные соки замирают, а весной — потому что они пробуждаются и сжигают ослабевшее тело, как слишком толстый фитиль слишком тонкую свечу. Во всяком случае, так считает наш самый предприимчивый агент, могильщик Либерман, а уж он-то знает толк в этом деле. Ему восемьдесят лет, он уже закопал в землю более десяти тысяч трупов, приобрел на свои комиссионные от продажи памятников домик у реки с форелевым хозяйством и стал, благодаря своей профессии, убежденным пьяницей. Единственное, что он ненавидит, — это городской крематорий. «Недобросовестная конкуренция», выражаясь языком коммерции. Мы тоже не любим это заведение: на урнах ничего не заработаешь.
Я смотрю на часы. Без нескольких минут полдень, а поскольку сегодня суббота, я заканчиваю рабочий день. Я надеваю металлический футляр на пишущую машинку, отношу множительный аппарат «Престо» за занавеску, убираю со стола образцы камня и вынимаю из ванночки с закрепителем фотоснимки воинских памятников и элементов надгробных украшений. Я не только заведующий отделом рекламы, художник и бухгалтер фирмы, я уже целый год — единственный ее сотрудник и полный дилетант в этом деле.
В предвкушении удовольствия я достаю из ящика стола сигару. Это настоящая черная бразильская сигара. Меня угостил ею утром торговый агент Вюрттембергской металлической фабрики, с тем чтобы тут же попытаться всучить мне партию бронзовых венков. Так что оснований сомневаться в качестве сигары, у меня нет. Я ищу спички, но их, как всегда, не найти. К счастью, в печке горит огонь. Свернув трубочкой банкноту достоинством в десять марок, я поджигаю ее в печи и прикуриваю сигару. Топить печь в конце апреля, в общем-то, — излишество; это просто коммерческая уловка, придуманная моим работодателем, Георгом Кролем. Он считает, что скорбящим близким и родственникам легче расставаться с деньгами в тепле, чем в холоде. Скорбь сама по себе — холод, охватывающий душу, а если у клиента замерзли еще и ноги, из него трудно вытащить хорошую цену. В тепле он оттаивает. А вместе с ним и его кошелек. Поэтому в нашей конторе всегда жарко натоплено, а наши коммерческие агенты затвердили наизусть главную заповедь шефа: никогда даже не пытаться заключить сделку в холодную или дождливую погоду, да еще на кладбище — только в теплом помещении и, по возможности, на сытый желудок клиента. Скорбь, холод и голод — плохие союзники в бизнесе.
Я бросаю остаток банкноты в печь и встаю. В этот момент в доме напротив со стуком распахивается окно. Мне незачем поворачивать голову на звук, я и так знаю, что там происходит. Перегнувшись через стол и делая вид, что вожусь с пишущей машинкой, я украдкой смотрю в маленькое ручное зеркальце, поставленное так, чтобы мне было видно окно в доме напротив. Это, как всегда, Лиза, жена мясника Ватцека, работающего на конебойне. Голая стоит у окна, зевает и потягивается. Она только что встала. Нас разделяет старая узкая улочка, и Лиза может видеть нас как на ладони, а мы ее. Потому она и стоит голая у окна.
Вдруг ее большой рот растягивается в улыбку. Громко расхохотавшись, Лиза показывает пальцем на мое зеркальце. Она заметила его своими ястребиными глазами. Мне, конечно, досадно, что она так легко меня разоблачила, но я делаю вид, как будто ничего не замечаю, и в клубах дыма ухожу вглубину комнаты. Через минуту я возвращаюсь к столу. Лиза злорадно ухмыляется. Я выглядываю на улицу, но смотрю не на нее, а куда-то в сторону, и машу рукой. В довершение ко всему я посылаю туда же воздушный поцелуй. Лиза клюнула, поддавшись любопытству. Высунувшись из окна, она смотрит на улицу в поисках моей воображаемой знакомой. Но там никого нет. Теперь моя очередь ухмыляться. Она сердито показывает пальцем на лоб и исчезает.
Не знаю, зачем мне понадобилась эта комедия. Лиза — что называется роскошная баба, и я знаю кучу людей, готовых заплатить пару миллионов за то, чтобы каждое утро наслаждаться этим зрелищем. Я и сам им наслаждаюсь, но меня почему-то злит, что эта ленивая жаба, которая только к полудню вылезает из постели, так нагло уверена в неотразимости своих женских чар. Ей и в голову не приходит, что совсем не каждый готов немедленно улечься с ней в койку. Хотя ей на это, в сущности, наплевать. Она стоит себе у окна со своей короткой стрижкой, нахально задрав нос, и трясет своим бюстом из первоклассного каррарского мрамора, как нянька погремушкой перед носом у младенца. Будь у нее пара воздушных шаров, она бы весело размахивала ими, как флажками. А поскольку она стоит в чем мать родила, то шары ей с успехом заменяют груди — ей все равно, чем трясти. Она просто радуется тому, что живет на белом свете и что все мужчины от нее дуреют, а потом, забыв обо всем этом, набрасывается на свой завтрак, как прожорливое животное. А мясник Ватцек тем временем убивает старых, заморенных извозчичьих кляч.
Лиза опять появляется в окне. На этот раз с накладными усами. Не скрывая бурного восторга от своей выдумки, она по-военному отдает честь, и я уже подумал было, что она дерзнула так нагло поддразнить старого фельдфебеля запаса Кнопфа, живущего по соседству, но тут же вспомнил, что единственное окно в спальне Кнопфа выходит во двор. И Лиза прекрасно знает, что из соседних домов ее не видно.
В эту минуту грянули, словно залп тяжелых орудий, колокола церкви Святой Марии. Она расположена в конце переулка, и кажется, что мощные удары колоколов падают в комнату прямо с неба. Во втором окне конторы, которое выходит во двор, я успеваю заметить проплывающий мимо призрак спелой дыни — лысый череп моего работодателя. Лиза, сделав неприличный жест, закрывает окно. Ежедневный сеанс искушения святого Антония завершен.
Георгу Кролю без малого сорок лет, но его голова уже блестит, как кегельбан в садовом ресторане «Болль». Она блестит с тех пор, как я его знаю, а я знаю его уже более пяти лет. Она блестит так, что командир полка, в окопах которого мы вместе с Георгом торчали, особым приказом запретил ему снимать каску даже во время полного затишья — его лысина даже самого кроткого противника вводила в соблазн выстрелом проверить, не биллиардный ли это шар.
Щелкнув каблуками, я докладываю:
— Командный пункт фирмы «Кролль и сыновья»! Личный состав занят наблюдением за противником. Подозрительные передвижения войск в квадрате «мясник Ватцек»!
— А! Лиза за утренней гимнастикой. Вольно, ефрейтор Бодмер! Почему вы не носите по утрам шоры, как лошадь в кавалерийском оркестре, чтобы защитить свою добродетель? Вы что не знаете три главных ценности жизни?
— Откуда же мне их знать, господин главный прокурор, когда я еще не видел и самой жизни?
— Добродетель, наивность и молодость, — командным тоном провозглашает Георг. — Раз потеряешь — никогда не вернешь! А что может быть безнадежнее опыта, старости и холодного ума?
— Бедность, болезнь и одиночество, — отвечаю я и выполняю команду «вольно».
— Это всего лишь другие названия опыта, старости и заблудшего ума.
Георг вынимает у меня изо рта сигару, изучает ее взглядом знатока, как ботаник пойманную бабочку.
— Трофей с металлической фабрики.
Он достает из кармана красивый золотисто-коричневый пенковый мундштук, вставляет в него сигару и невозмутимо курит.
— Я готов смириться с конфискацией сигары, — говорю я. — Это грубое насилие, и ничего другого я от тебя, как бывшего унтер-офицера, и не ожидал. Но зачем мундштук? Я — не сифилитик.
— А я — не гомосексуалист.
— Георг, на войне ты ел моей ложкой гороховый суп, который я воровал на кухне. А ложка хранилась за голенищем моего грязного сапога, и никто ее никогда не мыл.
— Война закончилась четыре с половиной года назад, — глубокомысленно изрекает Георг, любуясь белоснежным пеплом сигары. — Тогда мы, благодаря немыслимым страданиям, стали людьми. А сегодня бесстыдная погоня за деньгами снова превратила нас в разбойников. И чтобы замаскировать эту метаморфозу, мы вновь покрываем себя лаком относительно хороших манер. Так что… Кстати, нет ли у тебя еще одной бразильской сигары? Металлическая фабрика никогда не пытается подкупать служащих одной-единственной сигарой.
Я достаю из ящика вторую сигару и протягиваю ему.
— Значит, ум, опыт и старость, похоже, все-таки кое-что значат, — замечаю я.
Он, ухмыльнувшись, вручает мне пачку сигарет, в которой недостает лишь шести штук.
— Больше ничего нового? — спрашивает он.
— Ничего. Ни одного клиента. Но я, тем не менее, вынужден срочно просить о прибавке жалования.
— Опять? Ты же только вчера получил эту прибавку!
— Не вчера, а сегодня в девять утра. Каких-то несчастных восемь тысяч марок. В девять утра они, правда, еще кое-что из себя представляли. Но за это время был объявлен новый курс доллара, и теперь я вместо нового галстука могу купить на них всего лишь бутылку дешевого вина. А мне нужен галстук.
— И сколько теперь стоит доллар?
— Тридцать шесть тысяч марок. А утром было тридцать.
Георг смотрит на сигару.
— Тридцать шесть тысяч! Растет со скоростью размножения кроликов! Чем же это кончится?
— Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, — отвечаю я. — А до этого нам нужно как-то жить. Ты принес деньги?
— Всего лишь маленький саквояж, на сегодня и на завтра. Бумажки по тысяче, по десять тысяч и даже несколько пачек старых добрых сотенных. Около двух с половиной килограммов бумаги. Инфляция растет так быстро, что рейхсбанк не успевает печатать деньги. Новые стотысячные банкноты вышли всего две недели назад — а уже пора печатать бумажки достоинством в миллион. Интересно, когда мы начнем расплачиваться миллиардами?
— Если так пойдет дальше — через пару месяцев.
— Боже мой! — вздыхает Георг. — Где они, благословенные, спокойные времена двадцать второго года? В прошлом году доллар вырос с двухсот пятидесяти до десяти тысяч. Не говоря уже о позапрошлом — каких-то несчастных триста процентов.
Я смотрю в окно, выходящее на улицу. Лиза уже облачилась в шелковый халат, расшитый попугаями. Повесив зеркало на дверную ручку, она расчесывает свою гриву.
— Ты только посмотри на эту «птицу небесную», — говорю я с горечью. — Она ни сеет, ни жнет, и Отец наш Небесный питает ее. Еще вчера у нее этого халата не было. Шелк! Метры шелка! А я не могу наскрести хруст;в на какой-то галстук!
— Ты всего лишь безропотная жертва времени, — с ухмылкой отвечает Георг, — а Лиза, наоборот, на полных парусах плывет по волнам немецкой инфляции. Это — современная Елена Прекрасная, мечта барышников. На надгробных памятниках не разбогатеешь, сын мой. Почему бы тебе не поменять профиль и не заняться торговлей селедкой или акциями, как твой друг Вилли?
— Потому что я сентиментальный философ и храню верность могильным плитам. Ну, так как на счет повышения жалования? Философам тоже нужен хотя бы скромный гардероб.
— А ты не можешь купить свой галстук завтра?
— Завтра воскресенье. И именно завтра он мне и нужен.
Георг приносит из прихожей саквояж с деньгами, запускает в него руку и бросает мне две пачки.
— Хватит?
Я вижу, что в пачке преимущественно сотенные бумажки.
— Дай мне еще хоть полкило этой туалетной бумаги, — прошу я. — Здесь не больше пяти тысяч. Спекулянты-католики по воскресеньям столько кладут на тарелку для пожертвований, сгорая со стыда за свою жадность!
Георг чешет свой голый череп — атавистический жест, который у него ничего не значит. Потом протягивает мне третью пачку.
— Слава Богу, что завтра воскресенье, — говорит он. — Никаких изменений курса доллара. Хоть один день в неделю у инфляции перерыв. Бог, конечно, создал воскресенье совсем не для этого, но…
— А что ты скажешь о нас? — спрашиваю я. — Кто мы — банкроты? Или наши дела идут блестяще?
Георг делает глубокую затяжку.
— По-моему, сегодня в Германии уже никто не знает — кто он. — Даже сам бог коммерции Штиннес . Все вкладчики, естественно, — банкроты. Рабочие и служащие — тоже. Блестяще идут дела только у счастливых обладателей валюты, акций и крупных материальных ценностей. Мы не относимся ни к одной из этих категорий. Достаточно, господин философ?
— Материальные ценности!.. — Я смотрю во двор, где расположен наш склад. — Их у нас и в самом деле осталось не так уж много. В основном песчаник и литье. И мало мрамора и гранита. А те крохи, которые у нас еще остались, твой братец продает в убыток. Лучше всего было бы вообще ничего не продавать, верно?
Георг не успевает ответить. Снаружи раздается велосипедный звонок, вслед за этим слышатся шаги на старой скрипучей лестнице и начальственный кашель. Это наш «трудный ребенок», Генрих Кролль-младший, совладелец фирмы. Маленький полный мужчина с соломенными усами, в пыльных полосатых брюках с велосипедными прищепками. В его глазах мы читаем легкое недовольство. Мы для него — канцелярские крысы, которые целыми днями бездельничают, в то время как он несет тяжелую службу на передовой линии коммерческого фронта. Его не берут ни болезни, ни усталость. Он с рассветом отправляется на вокзал, а потом на велосипеде в самые отдаленные деревни, откуда наши агенты — местные могильщики или учителя — сигнализируют о новых мертвецах. Ему не откажешь и в расторопности. Его полнота внушает клиентам доверие; поэтому он усердно поддерживает форму утренними и вечерними возлияниями. Тощим, словно оголодавшим агентам крестьяне предпочитают маленьких толстяков. Немаловажную роль играет и его костюм. Он не носит ни черного сюртука, как наши конкуренты из фирмы «Штайнмайер», ни синего уличного костюма, как коммивояжеры из похоронной конторы «Хольман & Клотц» — первое слишком нарочито, второе слишком безучастно. Генрих Кролль носит визитный костюм, пиджак маренго с полосатыми брюками, старомодный жесткий стоячий воротник и галстук приглушенных тонов с преобладанием черного. Два года назад, заказывая этот костюм, Генрих вдруг засомневался — не будет ли для него предпочтительней сюртук-визитка, но в конце концов отверг эту идею, рассудив, что для визитки он маловат ростом. Это было мудрое решение — даже Наполеон выглядел бы смешно во фраке с длинным хвостом. А в своем сегодняшнем рабочем костюме Генрих Кролль похож на скромного администратора самого Господа Бога — и это именно то, что нужно. Прищепки на брюках вносят некую домашнюю ноту и в то же время работают как приманка — от людей, которые в эпоху автомобилизма пользуются подобными вещами, клиенты обычно ждут доступных цен.
Генрих снимает шляпу и вытирает лоб платком. На улице довольно прохладно, и вспотеть он никак не мог; это делается для того, чтобы показать нам, как тяжел его труд по сравнению с нами, дармоедами.
— Я продал крест, — произносит он с наигранной скромностью, за которой слышится вопль триумфа.
— Какой? Маленький мраморный? — спрашиваю я с надеждой.
— Нет, большой, — еще более скромно отвечает он и пожирает меня глазами.
— Что?.. Тот самый, из шведского гранита с двойным цоколем и бронзовыми цепями?..
— Тот самый! Или у нас есть еще один?
Генрих наслаждается эффектом своего идиотского вопроса, считая его верхом остроумия и сарказма.
— Нет, — отвечаю я. — Другого такого у нас уже нет. В том-то и беда! Это был последний. Гибралтарская скала!
— За сколько ты его продал? — спрашивает Георг Кролль.
— За три четверти миллиона, — потянувшись, отвечает Генрих. — Без надписи, без доставки и без ограды. Это все — за отдельную плату.
— О Боже!.. — произносим мы с Георгом одновременно.
Генрих взирает на нас с выражением надменного презрения; такое выражение иногда бывает у дохлой пикши.
— Это была тяжелая битва, — заявляет он и зачем-то опять надевает шляпу.
— Лучше бы вы ее проиграли! — говорю я.
— Что?
— Битву! Лучше бы вы ее проиграли!
— Что такое? — раздраженно произносит Генрих.
Я легко вывожу его из равновесия.
— Он считает, что лучше бы ты не продал памятник, — пояснил Георг Кролль.
— Что? Что вам опять не нравится?.. Черт побери! Я работаю как проклятый с утра до вечера, продаю товар по самой выгодной цене, а вместо благодарности получаю одни упреки! Помотайтесь сами по деревням и попробуйте…
— Генрих! — мягко прерывает его Георг. — Мы знаем, что ты вкалываешь, не жалея сил. Но мы живем в такое время, когда чем больше продаешь, тем быстрее разоряешься. У нас уже много лет инфляция. С самой войны, Генрих. А в этом году инфляция переросла в скоротечную чахотку. Поэтому цифры уже не имеют значения.
— Я это и без тебя знаю. Я не идиот.
Мы с Георгом оставляем это заявление без комментариев. Только идиоты делают подобные заявления. И возражать им бесполезно. Я знаю это по своим воскресным визитам в дом для умалишенных. Генрих достает записную книжку.
— Этот крест мы покупали за пятьдесят тысяч. Так что три четверти миллиона уж, наверное, можно назвать неплохой прибылью!
Кролль-младший опять презрительно-снисходительно взирает на нас с высоты своего сарказма, к которому охотно прибегает, особенно в общении со мной, бывшим учителишкой. Я и в самом деле девять месяцев учительствовал после войны в одной глухой, забытой Богом деревне, пока не удрал оттуда без оглядки, чуть не свихнувшись от зимнего одиночества.
— Еще большей прибылью было бы, если бы вы вместо роскошного гранитного памятника продали этот чертов обелиск, которой торчит перед окном уже шестьдесят лет, — отвечаю я. — Если верить семейному преданию, ваш покойный батюшка, только открыв дело, приобрел его еще дешевле — за каких-нибудь пятьдесят марок.
— Обелиск? При чем тут обелиск? Его продать невозможно, это знает каждый ребенок.
— Вот именно! — возражаю я. — Его было бы не жаль. А гранитный крест — жаль. Теперь нам снова придется покупать его, теперь уже втридорога.
Генрих Кролль, побагровев, сердито сопит своим толстым носом, заросшим полипами.
— Уж не хотите ли вы сказать, что покупная стоимость гранит
Сексуальна принцесса не стесняется сидеть голенькой | порно и секс фото с порно и секс звездами
Неформалки не отказываются сфоткать свою наготу | порно и секс фото с молоденькими
Сучка крупным планом светит волосатой промежностью | Реальное (домашнее) порно и секс фото