Крутого мачо уже ждет в постели его связанная сука
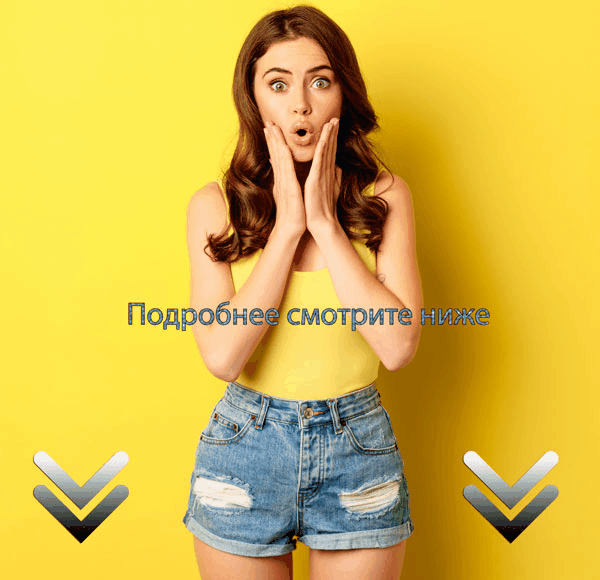
🛑 ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Крутого мачо уже ждет в постели его связанная сука
«Рано или поздно, под старость или в рассвете лет, Несбывшееся зовёт нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватываясь и дорожа каждым днём, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькнувшие черты?
Между тем время проходит, и мы плывём мимо высоких и туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня».
Александр Грин.
«Люди заблуждаются. Лучшую часть своей души они запахивают в землю на удобрения. Судьба, называемая обычно необходимостью, заставляет их всю жизнь копить сокровища, которые, как сказано в одной старой книге, моль и ржа истребляют, и воры, подкапываясь, крадут. Это – жизнь дураков, и они обнаруживают это в конце пути».
Генри Торо
Предисловие
(Которому, по правде сказать, место совсем не здесь).
Ночь. Прохлада. Зарево и огни. Площадь, пылая иллюминацией, крутит водоворот, вытягивая из переулков потоки людей. Дымы. Барабаны. Запах мяса и запах специй. Рокот, звяканье, ноющие мотивы, шум толпы стереопанорамой. Фасады медины и угловатый минарет между звёзд.
Плоская крыша. Чай, сигареты, липкие блескучие сладости. Финики. Апельсины. Ледяной сок. Дымок гашиша с соседней кровли и строчка из «Marrakesh Express» нараспев – израильтяне из Хайфы, совсем юные. Палят свечки, тянут по кругу экзотическую самокрутку.
Внизу – свет. Сияние. Горы еды. Кускус, танжин, харира. Дух приправ до самой до стратосферы. Кольца народа, перкуссия, восточные унисоны чумовым перебором банджо. Скулёж дудок. Лампы. Кобры торчком. Скрип рассказчиков, хохот, аплодисменты.
Мы выше всех. Место на крыше без душа и завтрака. Двадцать дирхамов за всё про всё. Душистая «Касба» без фильтра, аромат местных травок из кружки, тонкая терпкость масла на смуглой кожи. Искры смеха в глазах. Рюкзак подушкой и спальный мешок для двоих – недоступная большинству дешевизна.
Полночь. Толпа густеет. Гул, блики, треск мотороллеров. Тягучие песни, гортанные выкрики, рулады от зазывал. Хлопки в такт и дребезг жестянок. Марракеш. Джамаа-эль-Фна. Обжигающий август, звёзды, анриал происходящего.
И я.
Здесь.
И это – со мной!
Часть первая.
Осень.
Таких вечеров приходилось ждать недели по две и когда они, наконец, приходили, погода не имела никакого значения.
Город тянул влагу из облаков. Сырые сумерки мигали желтизной светофоров, ложились на лицо холодными каплями, оживая, поближе к центру, ярким тёплом витрин. Там, за стёклами, беззвучно перемещались элегантные женщины и блестели в благородном одиночестве дорогие аксессуары. Снаружи текли люди.
Невский утопал в транспорте. Поток набухал, наползая на переходы; неумолимый напор выдавливал в переулки глянцевые стада. Стелился выхлоп. Тупили трамваи. Хор гудков распадался раздражённой какофонией. Выворачивая колёса, наудачу вываливались маршрутки, разом усиливая неврастению и дерготню вечернего траффика.
На перекрёстках горбились деформированные иномарки; хозяева, вышагивая лакированными туфлями, разговаривали по мобильным, держась за уши, словно страдающие отитом. Громоздкие, похожие на неторопливых медведей, дэпээсники тянули рулетки и, водя по отсыревшей бумаге непослушными авторучками, писали в блокнотах.
Тянуло в тепло. Под козырьками, теснясь, ждали троллейбусов. В полутьме вспыхивали огоньки, пахло мокрой плащёвкой и дешёвыми сигаретами. Постояв в ожидании, я поднимал воротник и выходил под сеющий, перемежаемый крупной капелью, дождь.
Лотки отблёскивали журналами. Под усеянным каплями полиэтиленом кипела жизнь: открывались клубы и представлялись книги; титулованные авторы вращались в высших кругах; знаменитости высказывались в интервью; задавая моду, щеголяли в неброских прикидах красавицы и красавцы. Рекламировались экзотические места и экстравагантные увлечения. Ювелирные изделия и утончённый парфюм. Изящные голени, высокие каблуки, ремешки на тонких лодыжках. Эксклюзивные татуировки. Интимные парикмахеры. Альтернативная музыка с авангардными постановками. Непременный экстрим: вертолёт над вершиной, новенькая доска на ногах, прыжок – и долгие зигзаги по нетронутым склонам камчатских вулканов; наимоднейший дайвинг – саван льда над угольной бездной полярного океана, коралловый сюр Сейшел, и побитые торпедами, продырявленные артиллерией, разнесённые в клочья ударами пикировщиков корабли Гуадалканала…
Я проходил остановку за остановкой, намокая и пропитываясь моросью. Подползал троллейбус и, ложась на бок, словно кормящая китёнка китиха, с усталым выдохом – пш-ш-ш – открывал двери. Горел противный пятиваттовый свет. Люди, отряхивая зонты, входили в сырость салона; двери закрывались, следовал рывок и надсадный, нарастающий вой набираемой скорости. Становилось жарко; стёкла потели. На фоне жёлтых витрин мелькали застывшие силуэты. Толчок торможения; скрежет дверей; уличный холод окатывает выступившую было испарину. Троллейбус переваливал через мосты; я выходил и, спотыкаясь о торчащие как после землетрясения куски асфальта, срезал проходными дворами старого фонда.
В глубине дворов пряталась заведение. Крохотная сцена, кирпич сводов, флаги Конфедерации. Автомобильные номера: Калифорния, Аризона, Техас. Пин-ап на стенах, настоящий джук-бокс в углу, пачка старых, на 45 оборотов, пластинок. Очкастые, долговязые, с закосом под Хэнка Марвина, музыканты, и «Сорок миль плохой дороги» Дуэйна…
- У вас не занято?
Девчонки. Две. Лет семнадцать, не старше.
- Пожалуйста.
Уселись, щёлкнули зажигалками, приложились к бокалам. Со сцены сыпануло безостановочной дробью; они обернулись. Басовый рокот, мягкая акустическая гитара – «Пегги Сью», Бадди Холли. Высокий тенор, «икающее» пение. В мягкое «тыгы-дыгы-ды» барабанов врываются резкие, с отзвуком, гитарные риффы. Перекидывая по грифу сцепки аккордов, солист застенчиво улыбается и вскидывает брови. Один к одному. Наверное, видео смотрит, а потом перед зеркалом репетирует.
Я посматривал на соседок. Они не скучали. Блеск глаз, рука в руке, шёпот с покусыванием за ушко – без вариантов, даже не стоит пробовать: допивай и иди за повтором.
Виски самый дешёвый, но от него теплело в горле, и таяла поднявшаяся было досада. Лавируя, я пытался прибиться обратно; вокруг двигали носками и, растопырив локти, проводили перед глазами рогульками пальцев – «You Never Can’t Tell» из «Криминального чтива». Девчонки из-за моего стола встали и, оставив в пепельнице дымящие сигареты, втиснулись на площадку. Маленькие, ладненькие, призывные – на них смотрели не отрываясь, а им хоть бы что – так самозабвенно друг с дружкой отплясывали.
Хит кончился. Публика засвистела, захлопала, выражая своё одобрение высоким, разноголосым «у-у-у!». На сцене, посовещавшись, начали «Love Me Tender».
Девушки были разобраны в момент. Прижатые к танцорам, они медленно поворачивались по часовой стрелке, и какой-то залитый лаком мачо, в остроносых как у Хоттабыча туфлях, уже прихватывал одну из них за попку. Грациозно приседая, она всякий раз возвращала его руки обратно. Мачо заметно злился. Песня оказалась короткой и девчонки, вырвавшись из объятий, вернулись обратно.
- Ф-фу ты, блин, урод! Ты видела?
- Ну.
- Залит парфюмом. «Ла Костой» несёт – задохнуться!
Они жадно приложились к бокалам. Закурили. Посмотрели друг на друга, засмеялись, на пару секунд сблизив головы. Потом вспомнили обо мне и выжидательно посмотрели. Я поднялся:
- Пожалуй, за стойкой мне будет гораздо удобней. Всего хорошего, леди.
Очкарики рванули аккордами; зачастил палочками барабанщик: «Чаттануга»!
Высокая табуретка, ряды бутылок, сверкающие, перевёрнутые верх ногами, бокалы. Виски. До краёв, со льдом – всё как положено. И старый добрый Гленн Миллер. Убойный был бэнд, под него даже полярные конвои от торпедоносцев отстреливались: врубали на всю катушку во время атаки и фигачили из всех стволов по люфтваффе.
Курсовой семьдесят градусов правого борта. Цель воздушная. Выбор цели самостоятельный. Огонь по готовности. Маркони , «In the Mood» на трансляцию!
Семидесятая параллель, «волчьи стаи», спаренные «эрликоны». Английские эсминцы в ломкой чёрно-белой окраске, громоздкие транспорты с одноразовыми «Харрикейнами» на катапультах, «Лунная Серенада» над свинцовой водой…
Я потихоньку косел. За дверью, сквозь тёплую нью-мексиканскую ночь, стелилось асфальтовое шоссе; на обочине, закрывая звёзды, чернели причудливые столбы кактусов. Вспыхивали сигареты. Девчонки щебетали про Элвиса, и в полутьме их лица казались тонкими и точёными. Из джук-бокса басил Джонни Кэш, а рядом, держа в руке «Лаки Страйк», стоял всамделишный Эдди Кокран…
Деньги кончились. Я шёл через пустыри, наматывая на ботинки килограммы густой как замазка грязи. Навстречу вырастал спальный район.
Круглосуточные магазинчики, замусоренные тротуары, неистребимая грязь. Жидкие волосёнки травы смешанные с почвой, окурками и хранящей очертания кишечника собачьей органикой. Протоптанные наискось дорожки, зыбкие лужицы в смазанных отпечатках подошв.
На ветру сиротливо мотались тонкие прутья. Вокруг детского сада, китайской стеной обернулся мой дом – обшарпанный «корабль» с грубо промазанными мастикой швами.
В подъезде царила вонь. Из мусоропровода торчали залитые помоями газеты, под ним валялись рваные упаковки из-под сухариков. Высохшие плевки, заклеенный бэушной жвачкой лифт, пороша рекламных листков возле ящиков. Смердели бычки в жестянках. За окнами простирались просторы обледенелых, усеянных развалившимися пёсьими колбасками пустырей.
Я сидел дома.
Город заливали ноябрьские дожди. Латаный асфальт исчезал под необъятными, как Атлантика, лужами и аритмичная капель короткими очередями барабанила в жесть подоконников.
Я сидел дома. Выходил на дежурства, подбитым бомбардировщиком тянул наутро домой. Отоспавшись, долго приходил в себя в серых, вечерних сумерках, а потом часами отмокал в душе. Бросал в кипяток пельмени, ел и снова заваливался в постель, залёживаясь далеко заполночь и скармливая видаку взятые напрокат кассеты:
Би-Би-Си.
Нэшионал Джиографик.
Канал Дискавери.
«Шесть дней, семь ночей».
«Пляж».
«На гребне волны».
Море, джунгли, искрящиеся снега.
И серой, вонючей альтернативой всему этому:
Сериалы по всем каналам.
Нескончаемая череда реклам.
Лакированные телеведущие, напряжённо внимающие липким откровениям приглашённых сограждан.
Сизая хмарь.
Слякоть.
Обоссаные короба лифтов.
Накатывала депрессия. Временами казалось, что стоишь по горло в вязкой, стоячей воде прибрежного мангрового болота, а далеко-далеко, там, где небо сходится с морем, уходят за горизонт парусные корабли…
Туго надутые пассатом стакселя. Впереди, над шипящей под форштевнем водой, летит в синем небе спинакер. Он пыжится от гордости, выпячивая грудь так, словно он один тащит за собой корабль на натянутых как струны канатах. Слабая бортовая качка кладёт яхту с борта на борт и всякий раз топ мачты рисует над головами неторопливые дуги.
Разбрасывая бриллианты капель, с лёгким «ш-ш-шурх», выпархивают летучие рыбы. Развернув прозрачные крылья, они, как ласточки перед грозой, маневрируют над поверхностью, спасаясь от мелькающих тут и там гладких, литого серебра, тел тунцов.
Русые бороды, белые зубы, затейливые амулеты на мускулистых, бронзовых торсах.
Запотевшее горло оплетённой кокосовым волокном бутыли.
Океан, тёплый ветер, занятые делом мужчины.
И женщины.
Длинные ноги, чуткие ноздри, вздрагивающие под цветастыми тканями груди…
В общем, было хреново. В душе тосковали мрачные «Procol Harum», и лишь изредка в ней проскакивали озорные искорки «Hollies». В самые тяжёлые минуты по-прежнему приходили на помощь О. Генри, «Hey, Jude!» и «Бегущая по волнам», но время шло, лекарство ослабевало, и я всё глубже и глубже оседал в липкой трясине густой демисезонной депрессии.
Вот тогда-то, в самой низкой точке, всё это и началось...
Он был похож на керуаковского бродягу: выцветшая джинсура, тёртый ремень, куртка из армейского сэконда. Видавший виды рюкзачок на плече. И загар: кожа в чернь, волосы в медь, веер незагорелых лучиков в уголках глаз.
Девчонки повелись сразу.
- Ух, какой! – восхитилась Алёхина, и тут же решила: – Мой будет.
Надо же, я всю дорогу думал, что она у нас неприступная как К2, а тут на тебе! Ножку отставила, в радужках бесенята: стоит, улыбается, смотрит.
- Вы – новый доктор?
- Угу.
И представился:
- Северов. Вениамин. Можно Веня.
- А мы в курсе. Вы ещё заяву до кадров не донёсли, а о вас уже точные сведения поступили.
- Во как!
- Так деревня же – все всех знают, все когда-то вместе учились.
Я слез со стола и протянул ему руку.
- Феликс. Черёмушкин. Можно Че. Это не за доблесть, просто производное от фамилии: Черёмушкин – Че, Алёхина – я кивнул на Лариску, – Лёха.
Ладонь у него узкая и хваткая, как у гиббона.
- Пойдёмте, покажу вам, где кости кинуть.
Врачебный кубрик почти напротив диспетчерской.
- Вениамин, а по отчеству?
- Всеволодович. Но это для официальной обстановки, угу?
- Окей.
Прежде всего он как следует встряхнул лежалое одеяло. Обернул им матрас, сорвал засаленную, со штампом подстанции, наволочку и вместо неё натянул свою – яркую и цветастую. Вжикнув молнией, вытащил из рюкзачка лёгкий и воздушный спальный мешок. Классный мешок! Золото и ультрамарин, с такой же как и наволочка пёстрой, «гавайской» подкладкой. Поймал мой взгляд и ткнул в спальник пальцем:
- Где бы ты ни оказался, прежде всего, думай о комфорте. Старое солдатское правило.
- Ремарк, «Триумфальная Арка». Только там не где бы ты ни оказался, а в самые тяжёлые времена.
Улыбаясь, Северов посмотрел на меня, и я понял – сработаемся.
На топчане лежало содержимое рюкзачка: книги, компакты, плеер. Я подошёл ближе.
Простой, не навороченный «Walkman».
Лос Лобос.
Рай Кудер.
Лео Коттке.
Пол Баттерфилд.
Последний «GЕО».
«Приключение одной теории» Хейердала. Старое, потрёпанное – явно из «Букиниста»
Кажись, свой…
В кои-то веки!
Форма на нём сидела как парадка на офицере. Мягкая хэбэшка с нейлоновой нитью основы. Продуманные карманы, кнопки вместо липучек, заделанные в швы светоотражатели – у нас-то они давно лохмами, ткань в блеск, а карманы на бедрах – с почтовый ящик, и хрен дотянешься, если стоя...
- Где отхватил?
- На заказ сделал.
- Дорого?
- Полтинник уе.
- Дорого.
- Зато – вещь.
Он рассовывал по карманам всякую медицинскую всячину: плоскую коробку с заначками, дефицитные катетеры-бабочки, тонкий фонарик с зажимом – нигде ничего не висело и не топорщилось.
- Вы с Лёхой на пару хорошо смотреться будете – у неё тоже насчёт формы пунктик имеется. Золотой человек. С головой, с руками, интуиция как у мангусты. Тринадцать лет на колёсах, а прётся как в первый год – даже когда собаку выгуливает, форменную куртку надевает. Ты как раз с ней сегодня…
Дверь распахнулась и в помещение, весь в пыльных чёртиках, ввалился Коржик, сын ветра. Метаболизм у него ускорен раз в десять: соображает и действует молниеносно, передвигается только бегом и способен вымотать даже Масутацу Ояму – по лестницам, к примеру, он носится как пожарник на выступлениях. Фельдшера от него плачут. Самое удивительное, что при этом он постоянно опаздывает, даже на свои бесчисленные работы. Дома Корж не живёт, а совершает на него периодические набеги: возникает в родном гнезде, втыкает потомству в клювы яркую снедь, устраивает жене эротическую феерию и исчезает, оставив пачку денег на полочке и ком белья в тазике…
Стремительный и великолепный, Корженёв узрел меня с новым доктором, сунул одну руку ему, вторую мне, третьей расстегнул сумку, четвёртой стащил с головы кепку с помпоном, пятой открыл шкафчик, а шестой размотал с шеи длинный, айседородункановский шарф.
- Витя.
- Веня.
- Зря разложился, Веня. Принцесска увидит – свернуть заставит.
- Заведующая?
- Она, родимая. Правильная как инструкция – чуть ли не ссать у неё отпрашиваемся.
- Иди ты!
- Точно. Поднимаешь руку: можно выйти? А уж она решает: можно или нельзя. И никаких постелей, до десяти вечера нихт горизонталь.
- А если не спать?
- Да ей пох! До двадцати двух не положено – и точка. Матрасы в трубочку, как на парусном флоте.
- Скорее на галерном. Это только у вас или везде так?
- Вообще-то, везде. Только на других станциях на это кладут, а у нас нет. Оправдывают доверие. Из грязи в князи – прямо с линии к нам, и с ходу такая фигня. Мы ей: Виолетта Викентьевна, вы ж с нами одной крови! А она: ничего подобного, я, мол, отродясь себе такого не позволяла и вам не позволю – будете у меня по струнке ходить и под прямыми углами сворачивать.
- Понятно – все взрослые были в детстве отличниками.
- Ну. Мы, естественно, тут же на её станцию позвонили: мол, как? Неужто, правда? А они нам: кто – Виола? Ха-ха-ха! Так что такой расклад, дружище, сворачивай свою красоту.
- Слушай, я, пожалуй, оставлю. Упрёмся – разберёмся.
Ожил селектор.
Старая и новая смены – на конференцию.
- У вас что, обе смены на спевку требуют?
- Ну. А у вас что, нет?
- Нет. Только отработавшую.
- То есть, приходишь утром – и в койку?
- Ага.
- Во житьё у людей. Ничего, сейчас почувствуешь разницу. Здесь вам не там. Пошли?
Утренняя конференция. Народ отчитывается, подпрыгивая в ожидании ритуального чаепития. В помещении полумрак. За окном всегдашняя хмарь. Форточка не справляется, и в воздухе царит сложный микст из духов, носков и табачного перегара.
Принцесска вещает из-за стола. Она у нас как английская королева – царствует, но не управляет, разве что с курением борется, пепельницы выкидывает, да с коек народ гоняет, а в остальном толку от неё никакого – станцией руководит, как срок отбывает. Сейчас отпоёт своё и в кабинете запрётся, пасьянсы на ноутбуке раскладывать.
- Представляю вам нового доктора. Северов Вениамин Всеволодович. Доктор, по отзывам, грамотный, рукастый…
- Симпатичный, – пискнули из-за шкафа.
- Вы тоже ничего, – успел вставить новенький.
- …и языкастый. По всем статьям оценивается положительно...
Ещё бы! К нему тянуло. Как только в дверях появился – в такой жар кинуло, словно глюконат по венам пошёл. Ничего вроде особенного, но глаз на нём сам останавливается – нездешний. Поджарый, жилистый – сил нет!
Говорят, живёт один. С дежурствами не частит, насчёт денег не жадный, и за словом в карман не лезет. Сидит, вон, как ни в чём не бывало, будто сто лет тут уже отрубил…
- … и в завершении хочу поздравить Ларису Алёхину с Днём Рождения. Предупреждаю насчёт возможных эксцессов. В случае чего – никаких «по собственному желанию». Все поняли?
Традиции Северов уважал: коробка «Коркунова», шоколадный тортик, дорогой чай. «Кэмэл» для мужиков, «Vogue» для девчонок, бутылка мексиканской текилы на вечер.
Пучеглазая Галя-Горгона, сестра-хозяйка и штатный осведомитель, сунулась в дверь, покружилась для вида и тут же свалила – стучать. Через минуту на кухне материализовалась Принцесска.
- Вениамин Всеволодович, приказом Главного врача, в помещениях станций скорой помощи курить запрещается.
Северов сунул начатую сигарету в жестянку из-под «Синебрюхова».
- Касается всех.
В гробовом молчании
Худой темнокожий мужик трахает сисястую милфу в писю
Видео хентай грудастых баб рыцарей с пышными сисяндрами
Выебал и кончил на обнаженное тело девушки