Красотки в милицейских и медицинских нарядах
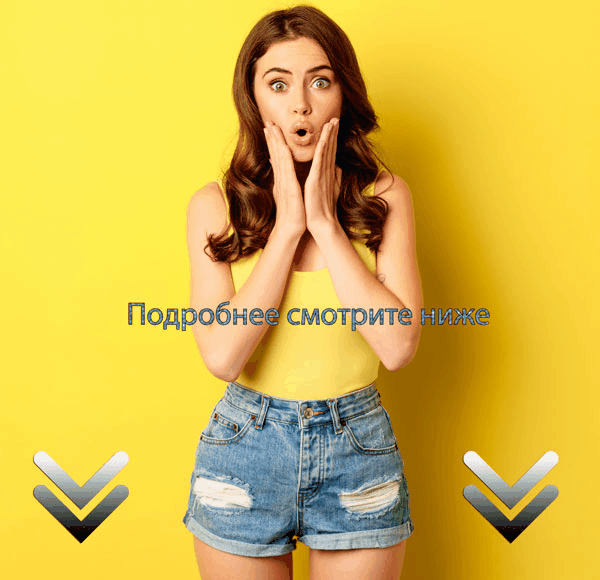
🛑 ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Красотки в милицейских и медицинских нарядах
20.03 2016
ЗАПИСКИ СРЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА
Какая странная отрада
Былое попирать ногой!
Какая сладость все, что прежде
Ценил так мало, вспоминать,
Какая боль и грусть в надежде
Еще одну весну узнать!
Иван Алексеевич Бунин
СОДЕРЖАНИЕ
Ceterum censeo praefationem non esse scribendam…
Часть I
Мерзкий мальчишка
Дом на Средней Первомайской
О еде, молоке и доме на Переведеновке
Школьные годы чудесные...
Открыть книгу
Урок истории
Коллекционер истории
Каникулы
Часть II
Август 69-го
Группа под «нехорошим номером»
Учиться, учиться, чтобы ничему не научиться...
Залегощь
Пикник на обочине
Председатель трезвости
Военные сборы
Выпускной бал
Вместо эпилога
CETERUM CENSEO PRAEFATIONEM NON ESSE SCRIBENDAM…
... Нет нужды доказывать, что любой личный дневник или письмо, обладают своеобразным иммунитетом, оберегающим их от постороннего взгляда. Очевидно, что приличный человек не станет читать письма, адресованные не ему, подглядывать в чужой дневник... Однако не следует упускать из внимания тот несомненный факт, что охранительный иммунитет действителен лишь определенное время: десять, пятьдесят, от силы - сто лет, а потом письма и любовные записки, дневники и мемуары становятся предметом архивным, предназначенным для чтения и исследования историков, писателей и прочих бездельников, любящих проводить время в архивах.
Попутно отмечу, что я вхожу в их ряды, будучи изрядным любителем старины и ценителем общения с людьми, жившими несколькими поколениями ранее меня. Именно общения, поскольку надежда, на то, что спустя многие годы или десятилетия кто-нибудь ознакомится с сокровенными мыслями автора дневника или воспоминаний, почувствует его эмоции, просто вспомнит о его существовании, превращает процесс создания мемуаров в наиболее приятную сферу писательской деятельности. Даже совсем скромный по таланту литератор, ступив на тропу мемуариста, вдруг становится замечательным рассказчиком, изощренным драматургом, черпающим сюжеты из собственного прошлого, когда услужливая память рисует светлые картины минувшего бытия, умело ретушируя места нежелательные, скучные, подчас просто пустые. А как порой хочется что-то доделать, договорить, долюбить, пережить сейчас, взамен того, давнего... Упущенного. Безвозвратно. Необратимо...
Ведь только воссоздавая на бумаге прошлое, можно почти реально, физически встретить давно ушедших людей. И вновь они - бесплотные тени, вызванные из небытия, обретают плоть и страсти, становясь теми людьми, которые когда-то шли рядом, были веселыми или грустными, добрыми или коварными. И вновь мы любим их или ненавидим, строка за строкой, воссоздаем их портреты, ставшие едва приметными мерцающими звездами в уплывающем космосе памяти. Создаем по образу и подобию, с любовью или ненавистью, воздавая каждому сполна, нескудной рукой – каждому свое. А себе?
«Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким судимы будете; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».
В самом деле, кто вправе брать роль судьи своих близких, кто первым бросит камень или увенчает лаврами? Непростые эти вопросы заставляют задуматься: имею ли я вообще право писать о прошлом, о том, что было, или о том, что не свершилось?
Я – обычный, средний человек, родившийся в самой середине двадцатого столетия, проживший жизнь на Средней Первомайской улице, имеющий средний уровень образования и воспитания, не попавший в элиту общества, не наживший состояния, славы, престижных наград. Господь, скромно отмерив мне долю творческих способностей, к счастью, не поскупился на здравый ум и трезвый рассудок, позволившие счастливо избежать многих ошибок, которые совершали, куда более умные и талантливые люди. В силу жизненных обстоятельств и врожденной лени мне не удалось толком овладеть ни одним иностранным языком – ни мертвым, ни современным, что, впрочем, не помещало побывать в разных концах планеты, когда такие путешествия еще не стали обыденным делом для русского человека.
Я не помню химических или физических формул, не берусь сказать, чему равна площадь круга, однако, все эти, безусловно, важные и полезные знания, никогда и не потребовались в реальной жизни. Гораздо важнее оказалось, что меня довольно сложно обмануть, ввести в заблуждение, я инстинктивно улавливаю фальшь и лукавство. Цепкая память и смекалка, свойственная русским мужикам, не единожды выручали в самых сложных жизненных ситуациях. Мне удалось осуществить многие юношеские мечты, получить врачебный диплом, овладеть непростой медицинской специальностью, уже в зрелом возрасте поменять успешную медицинскую карьеру на журналистику, достичь на новом поприще признания коллег, стать главным редактором журнала; написать два десятка книг, имевших определенный успех. Я счастлив тем, что общался с людьми, родившимися в девятнадцатом столетие, и увидел собственных внуков. Таким образом, история нескольких поколений стала и моей историей. Я бродил по улицам старой Москвы, которой уже не существует; зрелым, сформировавшимся человеком, сделался невольным свидетелем гибели великой страны – глобальной катастрофы, изменившей весь мир.
Ни в коем случае, не чувствуя себя обделенным в жизни, знаю - всему достигнутому, я обязан только самому себе, что в случае необходимости всегда мог постоять за себя и близких; не заработав богатства и высоких званий, взамен суетной мишуры, обрел душевный покой, ощущение независимости и самодостаточности. Никогда я ничего не делал более того, что должен делать обычный человек: трудился, любил, растил детей, болел, хоронил близких, радовался и страдал. А еще - не предавал, не воровал, не лицемерил, не летал в заоблачных высотах, но никогда не падал в грязь, пройдя обычный жизненный путь любого среднего человека. Не вижу в этом определение ничего обидного для себя, недаром еще Аристотель утверждал: «Добродетель есть некая середина между противоположными страстями. От того и трудно быть достойным человеком, ведь в любом деле трудно держаться середины». Думаю, именно в силу своей обыкновенности, мои мысли и поступки оказываются созвучны эпохе, в которой довелось жить.
Давно ушло былое любопытство, заставляющее путешествовать, менять профессии, женщин в надежде испытать остроту новых впечатлений, эмоций, неожиданность любовных ласк. На смену неуемному желанию удивляться новизне и удивлять мир собственными творениями, пришло понимание мыслей, чувств, желаний других людей, появилось некое умудрение, не имеющее, впрочем, ничего общего с талантом или подлинной мудростью. Но, может быть, это ощущение и есть итог жизненного опыта, подсказывающий, что пришло время собираться в самое дальнее путешествие?
Не знаю, удастся ли довести свои записки до какого-то логического завершения, вырастут они в законченную книгу или останутся лишь разрозненными черновыми набросками, обрывками фраз, аллюзиями когда-то прочитанных умных книг. Но торопиться нет причины – впереди меня, как, впрочем, и нас всех, ожидает вечность, к тому же, книги пишут для того, чтобы рассказать, а не для того, чтобы доказать. По-латыни (оказывается, остатки этого «медицинского» языка застряли в голове еще со студенческой скамьи), это звучит более внушительно: «Scribitur ad narrandum, non ad probandum». Поэтому, так важно вспомнить о многом и многих, стараясь по мере сил и способностей, сделать это как можно лучше, хотя: «о слоге или красоте выражений здесь нечего заботиться; дело в деле и в правде дела, а не в слоге». Заметьте: это не я сказал, а сам Николай Васильевич Гоголь, мнению которого очень даже можно доверять...
Думаю, что принадлежу к тем немногим, для кого только прошлое составляет наибольшую сладость земного бытия. Но, чем глубже я погружаюсь в былые времена, чем больше людей вспоминается, тем сильнее осознается горькая правда: как много я не успел сделать добра близким, как часто несправедлив и жесток бывал к тем, кто любил меня. Теперь я хочу попросить прощение у всех близких мне людей, и живых, и тех, кого уже нет. Прощения за причиненные обиды, за то, что не долюбил, за грубость, невнимательность, неосторожные обиды.
Часть I
МЕРЗКИЙ МАЛЬЧИШКА
МЕРЗКИЙ МАЛЬЧИШКА
Многие люди убеждены: доведись им родиться заново, то они непременно избрали бы иной жизненный путь. Другие, вероятно, более успешные, предпочитают пройти уже единожды пройденный. Не знаю, не знаю…
При одной только мысли, что пришлось бы вновь каждое утро идти на работу, дежурить по 12 -14 ночей в месяц, выслушивать начальников, командовать подчиненными, становится дурно. Ни в коем случае не хочется повторить былые ошибки, но и открещиваться теперь от них, по крайней мере, наивно и глупо. Жизнь прожита именно таким образом, но вряд ли необходимо повторять подобный эксперимент еще раз.
Мне не на кого, да и не на что жаловаться - судьба с завидной настойчивостью дарила шансы на блестящую карьеру, богатство, благосостояние, но каждый раз с каким-то непонятным пренебрежением я легко отказывался от подобных дорогих подарков, предпочитая оставаться довольно бедным, но независимым человеком.
Конечно, родись я где-нибудь в Бургундии, Лапландии или в Рио, мозги у меня были бы повернуты иначе и совсем другими глазами смотрел бы я на этот мир... Однако появился на свет я в Первопрестольной в солнечный воскресный день, в роддоме на Матросской Тишине. Говорят, в тот год выдалась чудная, теплая весна и накануне родов – в Благовещенье – мама долго гуляла в Сокольниках.
Я был поздним ребенком: к моменту моего рождения отцу шел сорок четвертый год, маме было сорок один. Разница в возрасте с моей старшей сестрой Ингой составляла ни много ни мало – девятнадцать лет; сестра уже училась на втором курсе медицинского института.
В планы родителей рождение столь позднего чада, очевидно, никак не входило, но в те времена аборты в СССР были запрещены, и любые попытки женщин избавиться от нежелательной беременности влекли за собой уголовную ответственность. Таким образом, Иосиф Виссарионович Сталин, в правление которого подобные «чадолюбивые» законы были в большом ходу, несет определенную долю ответственности за мое появление на этот свет…
Мама, вначале пытавшаяся безуспешно избавится от беременности более-менее легальными способами: поездками на трясущемся трамвае, приемом гомеопатических таблеток (не от этого ли моя непримиримая ненависть к последователям Ганемана?), наконец, смирилась с неизбежностью. Отец же, судя по словам родственников, был невероятно счастлив поздним подарком судьбы, и с нетерпением ожидал появления сына, имя которому было выбрано заранее в честь его брата – Александра Сергеевича Крылова.
Родился я восьмого апреля 1951 года. В Большом театре вечером давали «Жизнь за царя». Правда, тогда эпохальное творение Михаила Ивановича Глинки именовалось более прозаично - «Иван Сусанин», но от переименования звуки торжественного полонеза звучали ничуть не менее величаво. Оперу транслировали по радио, и, весьма вероятно, патриотическая мелодия «Славься, славься, ты Русь моя, славься, ты русская наша земля», долетев по волнам эфира до палаты новорожденных, навсегда вселила в меня дух самого отчаянного монархизма…
На следующий день после родов мама писала в записке моей бабке Александре Николаевне Крыловой: «Дорогая баба Саша! Итак, поздравляю вас с прекрасным внуком, с продолжением рода Крыловых. Похож он на Колю: такой же черный и волосатый. Сестра его хвалит, говорит, что очень спокойный. Роды прошли очень хорошо и быстро. Потом акушерка ставила меня в пример другим женщинам, говоря: «Смотрите, женщина не кричала, не шумела, а уже родила». А они, бедняги, пришли раньше меня, а родили, чуть ли не на сутки позже. Думаю, если все будет нормально, то числа 15 – 16 выпишут».
Родственники бурно отметили пополнение семейства. Тетка Валентина Екарешева в письме порадовала маму подробностями вечеринки: «День рождения Сашеньки мы отпраздновали лихо: Коля приехал ко мне. Мы выпили первый бокал за Сашульку, второй за Надю-маму и третий за Колю-папу. Я и Дора ( Дора Сергеевна Новгородцева – подруга В.Е. Екарешевой) опьянели, но у меня все прошло благополучно, а Дору рвало всю ночь, и на другой день она даже не пошла на работу. Ну, мужчины ничего, только второй полумужчина – Юрий Васильевич (Юрий Васильевич Екарешев (1932 –1991), сын В.Е. Екарешевой.) отчудил. Он выпил белого и портвейна (ерша) и до 12 часов у него все было хорошо, а когда утром я встала, то обнаружила около дивана кучу и лужу – он, оказывается, решил, что ночевал в уборной! И вот в 7 часов утра поднялся хохот, даже умирающая Дора хохотала. А Юрка сказал, что будет всю жизнь помнить день рождения Сашки. Когда выйдешь, то мы тебе расскажем такие детали, от которых можно смеяться до мокрых трико…»
Можно представить, что творилось в тесной теткиной квартире в Большом Гнездниковском переулке воскресным вечером 8 апреля 1951 года …
***
Нередко приходилось слышать от самых разных людей горькие жалобы на обиды, неудачи, отсутствие денег, жилья; сетования, почему, мол, я – такой талантливый и красивый, а родился в этой несчастной стране, где не могут в должной мере оценить мои великие достоинства. На это есть разные ответы... Лично про себя полагаю, что, если Богу было угодно, чтобы я появился на свет в роддоме на Матросской Тишине, значит, к тому имелась какая-то веская причина. Боюсь, мне так и не удалось угадать ее, исполнить предназначаемое.
Иван Алексеевич Бунин был не прав, утверждая, что «у нас нет чувства своего начала и конца». Правда, потом нобелевский лауреат поправился и уточнил, что «люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)…» Думаю, любому ребенку знаком таинственный трепет от близости смерти, когда кто-то умирает рядом или он слышит о чьей-то смерти. Не от этой ли таинственной жути происходит детская жестокость, когда милый карапуз с остервенением отрывает крылья бабочке или мучает кошку?
Очень легко могу представить, как появился на свет, маленьким красным комком оказавшись в руках акушерки, которая, шлепнув крепкой ладонью пониже спины, заставила меня дышать. И совсем несложно предугадать – ведь начало непременно знаменует собой и приближение конца: последние мгновения этой жизни, когда потухают глаза, замирает сердце, холодеют ноги. В один из самых счастливых дней своей жизни я записал в дневнике: «Грустно, но знаю, что с двенадцатым ударом часов, из старинной ореховой шкатулки выскочит злой тролль и все рассыплется». К чему обольщаться: он обязательно выскочит...
***
Помню себя едва ли не с младенчества. Представляется полутемная комната, с огромным письменным столом, шкафом, этажеркой с книгами. Я держался за спинку кроватки и сильно раскачивался, а потом почему-то оказался на полу и завыл благим матом. С этого эпизода, пожалуй, и начинается память, осознание себя, своей личности. Потом родители, не отрицая самого факта моего падения из колыбели, старались убедить, что этот эпизод я воссоздал по их рассказам. Спорить нет смысла: во-первых, родителей давно уж нет в живых, а, во-вторых, убежден, что большинство детских воспоминаний – не что иное, как память взрослого человека о воспоминаниях его же, но в более раннем возрасте. Так складывается пирамидка мнемонических фантазий, за которыми подчас теряется сама суть происшедшего. Думаю, сходный процесс происходит и в истории человечества, когда летописцы, старательно переписывая друг за другом хроники, создают чудовищно неправдоподобную сказку, выдаваемую за подлинную историю.
Но один факт бесспорен: очень скоро я уже знал, что существо обнимающее, ласкающее меня – это моя самая красивая и дорогая на свете мама, что человек с сильными руками и колючей щекой – отец, убаюкивающий колыбельной про «серого котика». Потом в мое сознание вошли две бабушки, дед, старшая сестра, ее жених Леня...
Постепенно события выстраиваются в вереницу картин и зарисовок. Причем, по яркости и сочности те давние детские впечатления, что, увы, все реже просыпаются в моей закосневшей памяти, все равно остаются намного рельефнее эмоций, испытанных во взрослой жизни. В науке такое состояние, кажется, называется эйдетизмом.
Удивительно, как раньше не обратил внимания на замечательные по сходности переживаний слова Бунина о его детстве: «Дальнейшие дни и годы моей жизни образуют, при всей их разности, нечто все-таки однородное, более простое, обыденное, более близкое мне теперешнему, нежели переменчивость, давность, легендарность детства, юности, первой молодости. Присказка всегда поэтичнее сказки».
***
Вот всплывает целая череда событий, едва связанных между собой. Мне четыре года, я одет в светлые коротенькие штанишки с бретельками крест-накрест, матросскую рубашку, на голове – соломенная кепка с большим картонным козырьком. Вся наша семья живет в доме отдыха где-то под Истрой. Помню высоко зависший над речушкой мосток из трех бревен с перилами из сучковатых жердей, перейти который – немалый подвиг.
Покопавшись, извлекаю из глубин памяти образы совсем чужих, малознакомых людей, о которых сейчас, вероятно, не помнят даже их родные. Вот круглое и сизое после бритья армянское лицо нашего соседа по санаторию. Звали его Гурген, он работал директором магазина «Ткани», что находился неподалеку от нашего дома. Главным достоинством Гургена, на мой взгляд, был новенький, лакированный автомобиль «Москвич», позиционировавший своего владельца на уровне небожителей.
Хорошо помню, как однажды мы ехали в Москву из Истры на гургеновой машине. Беременную сестру укачивало и Гургену приходилось останавливать машину, чтобы сохранить чистоту и порядок в кабине. Инга выходила на обочину подышать свежим воздухом. Мне было не до нее, я вглядывался в мерцающие шкалы приборов, следил за секундной стрелкой на часах, вмонтированных в приборную доску, а в окно заглядывал былинный месяц. Лучшего путешествия на машине с тех пор, пожалуй, и не случалось. А было мне тогда от силы года четыре.
Там же, в Истре, я гуляю с дедом, навстречу идет отец, приехавший из Москвы. Он привез игрушечный самолетик-планер. Еще один эпизод, крепко запавший в детское сознание: я впервые вхожу в церковь. Свечи, лампады, лики святых на иконах, густой, незнакомый запах ладана – увиденное пугало и завораживало.
Потом был трагикомический эпизод. Мы с отцом спускаемся по лестнице в вестибюль. Неожиданно я вырываюсь и бегу за человеком, открывавшим тяжелую парадную дверь. Мощная пружина захлопывает дверь, капканом прищемившую голову глупого птенца.
На руках отец отнес меня в наш номер. Прибежавшая перепуганная докторица едва не потеряла сознание от мысли, что я помру у нее на дежурстве. К счастью, не все врачебные предсказания сбываются с фатальностью железнодорожного расписания. Холодная тряпка на голове, синяк на лбу – и я вновь гуляю по окрестностям, уже не выпуская отцовской руки. Даже, когда отец играет в городки, я теперь ни на шаг не отхожу от него. Он расставляет городошные фигуры, я старательно помогаю, потом, из озорства, сбиваю «бабушку в окошке» ногой. Мужики-городошники злятся, отец, улыбаясь, грозит пальцем, и мы с ним идем гулять по лесу. Счастливые картинки из дальнего, навсегда ушедшего мира…
***
Ох сучка и классная
Чикса принимая ванну
Девушка с синими волосами мастурбирует голой на балконе в старой хрущёвке