Красотка рвёт на себе голубую тельняшку
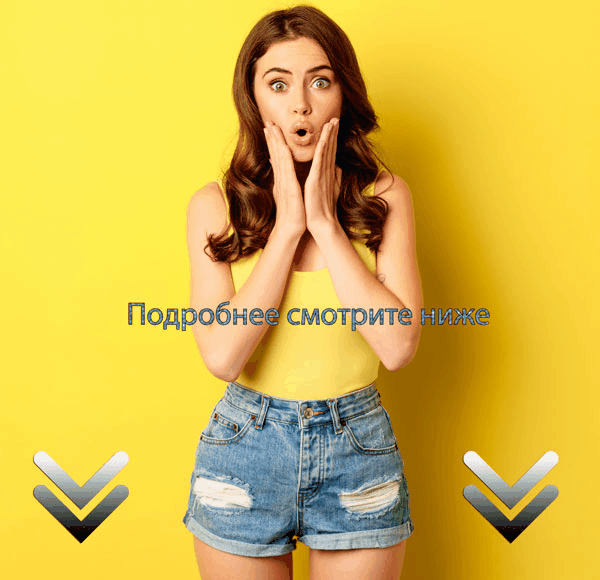
⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Красотка рвёт на себе голубую тельняшку
роман
Всем, с кем довелось коротать наше время, с любовью и состраданием, а особенно Александру Качановскому , который предвидел и умел поддержать.
Часть первая Глава 1. Осколки
Это состояние, которое было бы правильно назвать инфрафизическим прорывом психики, крайне мучительно и по большей части насыщено чувством своеобразного ужаса.
«Роза мира», Даниил Андреев
Часть первая. Сенсации продаются по дешёвке
Глава 1. Осколки
…Отдельные пылкие натуры пользуются вместо телескопа калейдоскопом при изучении всяческого рода жизненных явлений.
«Три самозванца», Артур Мейчен
Может ли такая вполне безобидная вещь, как детский калейдоскоп, стать существенной и неотъемлемой деталью орудия убийства? Прицелом, глядя сквозь который ищущий чего-то, изумлённый пестротой красок и симметричных узоров глаз ребенка должен, в конце концов, стать хладнокровно измеряющим последние миллиметры между жизнью и смертью зраком киллера? С некоторых пор это оружие странной конструкции возникает в моём воображении. Я не могу избавиться от ощущения, что всё происходящее с нами вершится по воле Мальчика, который крутит в руках незамысловатую игрушку, любуясь тем, во что составляются засыпанные в неё разноцветные осколки. От ещё недавно забавлявшегося таким образом Мальчика до профессионального убийцы не столь уж длинная дистанция; крутившему калейдоскоп пятилетнему ребенку пятнадцатилетней давности стоило окунуться в одно из чеченских мочилов, пострелять из снайперской винтовки по живым мишеням, чтобы затем, оставшись безработным, переродиться в монстра, добывающего средства на пропитание стрельбой по двуногим.
Среди заглоченных подземкой эти двое по какой-то случайности оказались рядом. Два человеческих существа, оставляющие в беспрерывном скольжении по сетчатке «глазных яблок» лиц, фигур и цветовых пятен нечто вроде мало чем выделяющихся из общего потока двух вспышек. Два стёклышка в вечно движущемся, вращаемом чьей-то неугомонной рукой калейдоскопе. Два хрупких осколка.
Дребезжащий звук его гитары ещё более усиливает ощущение того, что жизнь дала трещину и со звоном рушится под ноги куда-то спешащего люда. Запахи, исходящие от её роз, хризантем и гвоздик, конечно, несколько скрашивают ощущение дискомфорта от леденящего сквозняка, струёй сырости врывающегося в реактивную турбину подземного перехода, но не настолько, чтобы ощутить себя в тропическом раю, в шезлонге под пальмою с плещущимся у ног морем, из которого выползают на берег медлительные крабы и неуклюжие черепахи. Здесь-то жизнь отнюдь не ползёт, а шагает, идёт, движется, увлекаемая неумолимым потоком. Что ни подъезжающая к платформе внизу электричка — прилив, что ни отъезжающая — отлив. Тащит так, что, того и гляди, уронит. А быть затоптанным — не самая весёлая перспектива. Так что, будь добр, держись на ногах, ощути трение между подошвами штиблет и скользкой поверхностью, цепляйся за песок неуклюжими клешнями членистоногого, не то сшибёт накатившей волной и утянет в глубину зева, протащив сквозь ознобные нервюры временных барьеров, очнувшись по ту сторону которых ты обнаружишь себя в драной хламиде, подпоясанной пеньковой верёвкой. И разве это не радость — зависая над пропастью времен, ощущать себя скалолазом, удерживающимся там, где тебе хочется находиться в этот момент, да ещё и протягивающим руку за экзотическим цветком поднебесья — эдельвейсом? Впрочем, так ли велико ликование удержавшегося? Ведь даже если ты каким-то чудом зависнешь в неизбежном падении на полпути, то окажешься всего лишь Орфеем в джинсиках с гитарой, чьи струны натёрли мозоли на пальцах и чья глотка, хрипящая песенку про Меч, Змея Подземелья и Рыцаря, жаждет бургундского. Отмеряемое периодическими падениями на заношенный тряпичный чехол монетками время не сможет удержать тебя меж своих зубчатых шестерёнок. Пёс хриплых псалмов, ты всё равно соскользнёшь с зубчиков, пружинок и анкеров в своё прошловековье, по скользкому жёлобу скатываясь в адище, где персонажи всех времен перемешались, как стёклышки в детском калейдоскопе. И вот уже брошенная на чехол «бумажка» — превращается в вырванный из тома чернокнижника лист инкунабулы, на котором не прочесть каббалистических знаков, как и не увидеть обозначаемой планету Гелению точки на недопереваренном обрывке звёздной карты, выблеванной пришельцем, так и не сумевшим наладить контакта с землянами. Так что опять вместо желанного знания — ускользающая тайна и неопределённость. Увы.
Почему всё произошло именно так, а не иначе и откуда они пришли? Всё это так и останется областью непознанного. Подобно оптическому прицелу снайпера, микроскоп вглядывается в глубь материи. Молекулы, атомы, кварки, электроны, нейтрино, а дальше-то что? Отупляющая пустота с блуждающими в ней торсионными завихрениями? Разбухшая до размеров телескопа Пулковской обсерватории картонная трубка наставлена в ночное небо — планеты, звёзды, галактики, белые и красные карлики, квазары, пульсары и чёрные дыры складываются в забавляющие нас узоры, но, разглядывая их, получим ли мы ответ — откуда они придут, чтобы полностью изменить происходящее с нами? И каков он будет, этот приход? А, может быть, он уже состоялся? И длится поныне? И первого разведчика оттуда просто приняли не за того? Его, свободно шляющегося поперёк временных коридоров, в XV веке признали за чёрта, в XVIII — за шарлатана-алхимика; в России 1980 года его вычислили как диссидента и упрятали в психушку. Если не подвалы инквизиции, так дурдом. Так-то!
Входя в метро, я шарил в кармане джинсов в поисках мелочи. Я перебирал в кармане монетки, словно сортируя в памяти фрагменты «Осколков». Эти, каждодневно записываемые мною бессвязные отрывки доставляли мне много беспокойства. Они приходили совершенно неожиданно, заставая меня врасплох, проявляясь на сетчатке глаз, словно они содержались в виде неведомого мне кода внутри микроскопических «колбочек» и «палочек» на глазном дне, и лишь при входе в подземку эта закодированная на молекулярном уровне информация начинала давать о себе знать. Шагая по ступенькам, опуская жетон в щёлку монетоприемника, двигаясь вниз на эскалаторе, садясь в электричку, я знал, что сейчас начнётся. И это начиналось. Раньше или позже, но всегда и с неумолимым постоянством. Потом оставалось только записать переданный текст.
Спускаясь по ступенькам перехода, я неизбежно натыкался на гитариста. Рядом с ним всегда кто-нибудь стоял, восхищаясь беганьем пальцев, блаженно подпевая, умильно слушая и даже притопывая ботинком. Возле гитариста притормаживали и пьяненькие стареющие юноши, заказывающие «вальс-бостон», и совсем молодые, балдеющие от агрессивного буги. Глядя на гитариста, я видел в конце временного коридора златовласого юношу-певца. Того самого, что, натянув на рога бычьего черепа сушёные воловьи жилы, бесстрашно нырнул за тенью Эвридики в земную щель, где булькало, урчало и кипело.
Я останавливался, чтобы бросить на чехол монету. Металлический кружок с отчеканенным на нём ликом первого в мире космонавта отклонялся от первоначальной траектории и, кувыркаясь, исчезал в открывшейся сбоку от сосредоточенного музыканта пульсирующей дыре. В неё и был виден златокудрый арфист. Певец водил дланью по жилам. Под лобовой костью бычьего черепа гудело, отзываясь до самых кончиков рогов. Гул нарастал, прокатываясь по туннелям. В тёмной пещере вспыхивало сияние, царь и царица слушали, как завороженные — и меня уже уносило в чреве стеклянно-металлического, опутанного электрическими молниями Змея Подземелья, способного пронзать насквозь временные переборки, за пределами которых я мог ощутить себя самим собой, слившись с тем златовласым юношей-арфистом и понять: в первом, пережитом мной варианте неотвратимой судьбы, всё было куда лучше, чем в последующих, сильно смахивающих на вереницу пародий, дублях! По крайней мере, бородатый дядька Аид и дородная Персефона принимали тебя гораздо приветливее, чем вездесуще- всесведущий иезуит и келарь в качестве его подружки, до стеклянности безмозглые граф и графиня, желавшие обрести пузырёк с эликсиром молодости, начальник колымского лагеря и его дебелая жёнушка или главврач психиатрической лечебницы с юной санитаркой, помешанной на том, что она — реинкарнация Евы Браун. Царственная античная парочка без каких-либо проволочек выдала тебе тень Эвридики: бери, ежели по силам эта ноша, если, пока ночь и дремлет Змей Подземелья, ты дотащишь её до первой обутой в мрамор храмоподобной станции! Если, не испепелившись на контактном рельсе, успеешь вытащить её из ямины на перрон, а потом, как невесту на руках — к столу, уставленному питием и закусками, по ступеням, по ступеням — вверх, чтобы под крики «Горько!» впиться в оттаивающие губы. Учти: эскалаторы, на одном из которых вы могли бы вознестись, не прилагая особых усилий, в это время отключены, так что придётся тащить, потея! А вырвешься на свет зевесов — там цветы на лужайке, словно созданные для венков на головах дев-вакханок на празднестве Диониса! И «Горько!» на самом деле означает: сладко. И лукавые фавны кружатся в танце. И весь мир — цветочная поляна! Пестики-бамперы. Тычинки-фары. Лепестки-дверцы авто. Асфальтовые стебельки. Просеки фонарных столбов. Чащобы дворов, переулков, подъездов, соты лестничных площадок; бензиновые запахи цветов цивилизации и жужжание автомобильных пчёл. И разве может в этом разымаемом на тысячи осколков, звуков, запахов, смыслов пространстве уцелеть, не овеществившись и не отвердев, бесплотная тень?
Всё это дремало в глубинах твоего либидо, пока ты не соорудил над его безднами что-то вроде космодрома или причала, чтобы отплывать в его манящие, зияющие бездны с последними склянками жёлтой субмарины. Отчаливай, погружайся, стартуй, да найдешь ли ты там, в своём прошловековье, хоть кого-то из ряженных в доспехи, камзолы или эллинские туники? Там пусто, как в морской раковине, из которой вытекло её содержимое! И только шум прошлого — как шум моря, если поднести спиралевидную штуковину к уху. Когда-то ты подобрал её на кипрском побережье, просверлил дырочку с краешку, продёрнул шнурок, залил в неё чернил, выжатых из растущих на коровьем навозе, выделяющих фиолетовую слизь грибов и, заткнув излюбленное раками-отшельниками убежище мхом, подвесил на пояс рядом с баклагой для воды и сумой для краюхи хлеба. Тогда ты странствовал в толпе пилигримов. Твой путь лежал в Иерусалим, а в деревеньке, в долине за замковым рвом с пяльцами у окна осталась ждать твоего возвращения льноволосая девушка. А теперь? В каких пыльных шляхах Млечного Пути заплутал ты, и на какую перенёсся планету?
В свете неоновых трубок, отблесках витрин ресторанов и казино образы затворниц над вышивками, маячивших в стрельчатых окнах замков, перевоплотились в фурий с бледно-голубоватыми лицами вампирш, а паладины, водружавшие на головы шлемы с султанами во имя прекрасных дам, — в персонажей залихватских вестернов, ловцов приключений на час, ощущающих себя шариком, брошенным в рулетку мимолетных удовольствий.
Но здесь, в нижней части городского вертепа, подобно никуда не исчезнувшей тени Эвридики, властвовала цветочница, всегда держащая в одной руке букет, в другой — дешёвенький бестселлер, который она умудрялась читать в этой кутерьме. Так вот однажды обернулся он на её оклик — и она материализовалась в гигантском соленоиде-ускорителе подземки.
Я делал шаг в направлении стеклянных створок. Цветочница отрывалась от чтива и, протянув мне розу, говорила, понимающе улыбаясь:
— Мужчина! Цветок для вашей девушки!
Какая там девушка! Та, что, состарившись в ожидании, превратившись в сморщенную седовласую старуху, давно истлела под поросшим незабудками могильным холмиком за деревней у подножия замковых руин? Но как было не поддаться на незамысловатую рекламу?! Даже если на тот момент у меня не было никакой девушки, я покупал цветок, чтобы вручить его любой из годящихся на эту роль; тут же — на ступеньках эскалатора, в вагоне электрички или по пути на пресс-конференцию. И хотя я был не из тех, кто, соря деньгами, отхватывает букетище потолще, чтобы в сомнамбулическом трансе устремиться куда-то наверх, туда, где тротуары вдоль и поперёк исхожены нескончаемой колготочно-туфельной сороконожкой, я покупал цветы, невольно приобщаясь к непрерывному карнавалу с непременными масками Рыцаря и Прекрасной Дамы. Казалось, этот поток мог в любой момент утащить и саму цветочницу, чтобы закружить, завертеть налетевшим откуда ни возьмись торсионным вихрем и отшвырнуть от сосредоточенно бренчащего по струнам гитариста, но она чудом продолжала оставаться на прежнем месте.
Я входил в вагон электрички. Металлический голос предупреждал о том, что двери закрываются, и сообщал название следующей станции. Поезд трогался. В отражениях стёкол мчащегося вагона можно было видеть и себя, и стоящую рядом задумчивую женщину, и пенсионера в очках на носу-клюве, и стриженного под «ноль» плечистого паренька. Поезд разгонялся, и в заоконном мелькании неровностей стен и оснастки туннеля чудились текучие, переменчивые лики. Сквозь каждое лицо просвечивало готовое вот-вот прорваться наружу другое. Никель поручней и искусственный свет. Запах озона на контактах. Гул и жужжание от трения брюха Змея Подземелья о его чудовищную нору, где он движется, катясь по бриллиантам и самоцветам электрических искр. Разгоны, подобные взлётам. Остановки, подобные провалам в воздушные ямы. Всё это придавало поездкам в метро какой-то особый смысл скольжения на грани реального и ирреального.
Теорию о подземелье метрополитена, выстреливающем персонажами всех веков в наше время я, кажется, услышал впервые от отца Святополка, в 1992-м рукоположенного в православные священники из вузовских преподавателей. Впрочем, к тому времени эта легенда уже бытовала в виде фольклора. Её пересказывали машинисты электричек и дежурные милиционеры, ею бредили нищие на ступеньках метро и панки, попивающие пивко на газоне возле колизеевых колонн оперного театра. С тех пор, как за бросившейся на рельсы обкуренной девицей, пытаясь спасти её, в ту же яму спрыгнул средних лет мужчина и они аннигилировали, замкнувшись на высокое напряжение, машинисты то и дело видели, как перед несущимся на всей скорости головным вагоном возникали светящиеся сущности. Кому-то мерещился монах в рясе, кому-то — рыцарь, кому-то — похожий на олимпийского бегуна юноша с арфой в руках. Все эти сгущающиеся в витающем пепельном облачке персонажи непременно за кем-то гнались. Монах — за голой, долговолосой девкой, рыцарь — за прекрасной дамой в декольтированном панье, арфист — за пастушкой в тунике. Старушки толковали о чудесных исцелениях от рака тех, к кому прикасались призрачные плазмоиды, когда они, проникнув сквозь металл и стекло, влетали в вагоны или выскакивали на перрон, смешиваясь с толпой. Бесплодные молодухи беременели, стоило им столкнуться с блуждающим по подземелью серебристым шаром и возникающим из него ухмыляющимся хлыщом в кафтане, туфлях с золотыми пряжками, тростью в руке и косицею на затылке. Отец Святополк утверждал, что во время строительства метрополитена проходчики потревожили могилу захороненного в екатерининские времена в тайге, на месте впадения речки Каменки в Обь ссыльно-опального масона-иллюмината, вот неупокоенный дух и напускает морочь. Что, мол, и в суициде девицы, и в исчезновении мужчины тридцати пяти лет, числившегося репортёром популярной газеты, повинен тот же злокозненный иллюминат. Говорил о. Святополк что-то не совсем связное и о Чёртовом городище, и о раскольниках-скрытниках, когда-то поселившихся в устье речки Каменки, куда они пришли с Алтая, где выполняли священную миссию.
В интервью газете «Городские слухи», где я в то время подвизался на репортёрской ниве, о. Святополк побожился отыскать масонские кости и раскольничьи норы. Кое-как уместившаяся на развороте пятничной «толстушки» проповедь с размышлениями, откуда есть-пошёл наш город, вызвала горячий отклик мистически настроенной общественности. Всех заинтересовала возможность соединения подземными переходами Ключ-Камышенского плато с пещерами Алтая и даже Тибета. Старообрядческая легенда об апокалиптическом Подземном Змее, который рано или поздно должен явить себя миру, вызвала бурю откликов. Для скорейшего искоренения порчи посыпались предложения от лозоходов, экстрасенсов и эзотериков-психотерапевтов. Советовали вскрыть могилы путейца Тихомирова, эксгумировать железнодорожника Гарина-Михайловского, подвергнуть ревизии останки космиста Кондратюка-Шаргея, произвести молебен над прахом эклектика Крячкова и даже пошукать в братской могиле жертв колчаковщины под монументальной рукой с факелом. Это были вполне бредовые предложения, которых ни мэр, ни губернатор, ни городское, ни областное законодательные собрания, ни даже редактор «Городских слухов» Давид Петрович Анчоусов никогда бы не одобрили. Пытались было отыскать тех двоих, чьи истаивающие до скелетов тела видели на рельсах оцепеневшие от ужаса пассажиры метрополитена в час пик. Но как только достоянием гласности стало то, что исчезнувший был журналистом, мистически настроенная общественность углядела в происшедшем кару, посланную свыше. Тем более что, судя по фотографии на обгоревшем, завалившемся между шпалами удостоверении, которое извлекли оттуда специальными щипцами, и она была представительницей второй древнейшей.
Этот феноменальный и до конца неясный случай мне довелось описать в небольшой заметке «Смерть на рельсах». Поэтому и я с самого начала имел к нему причастность. Но знал ли я, что, подобно Олдрину и Шепарду, заброшенным на Луну по формулам, высчитанным строителем элеваторов Кондратюком-Шаргеем, мне доведётся стать одним из первых скитальцев во времени, вполне возможно, осуществившим мечты и Кондратюка, и Крячкова, и некого секретаря обкома одновременно! Ведь геометрия подземки Центросибирска во многом определялась этими необыкновенно деятельными людьми. Один из них рвался к звездам, другой был весь во власти гравитации, третий способствовал созданию одетого в мрамор подземелья.
В какой-то мере она, эта геометрия, как мне казалось вначале, влияла и на появление обрывочных текстов моих «Осколков». Частенько, приходя домой, я тут же садился за компьютер и записывал бессвязные, пришедшие ко мне в виде метафор и образов текстовые фрагменты. То же самое делал я и входя в кабинет редакции. И пока все были на летучке, я скачивал переданное мне кем-то сообщение, стуча по клавиатуре. Порой по пути от метро до дома или до работы я наговаривал «Осколки» на диктофон.
Глава 2. Цензор-соглядатай
"...Но всё это ничто по сравнению с охотой на человека, а именно её мне и удалось мельком увидеть сегодня вечером."
«Три самозванца», Артур Мейчен
Сколько раз, проходя мимо унылого гитариста Гены, бросал я монеты на тряпичный чехол, в котором приносил он в метро свою «кифару»! А у его соседки Светы в нескончаемом ряду цветочниц — и именно у нее — покупал и розы для подружки, и гвоздики на похороны. С некоторых пор я повадился посещать проводы в последний путь «заказанных». Это была моя коронная тема, мне нужно было набирать фактуру для репортажа на первую полосу. Чтобы усыпить бдительность горюющих вдов и корешей-«братьев» убиенного мафиози, я обряжался в чёрное, прихватывал букетик, мимикрировал под скорбящего друга детства убиенного и, миновав кордоны из «Лэнд Крузеров», «БМВ» и «Ауди», прорывался к пластмассовому гробу, чтобы уложить поверх лаковых туфель носатого покойника комбинацию из чётного числа стеблей и бутонов. В итоге «Городские слухи» пестрели заголовками «Чартер на тот свет»;, «Ещё одна жертва киллеризма», «Мелодия для флейты с оптическим прицелом»…
В ту пору меня и посетило неотвязное ощущение: кто-то из подоспевших, как и я, на панихиду и кладущих в гроб цветы — тот самый снайпер, в силу причудливых метаморфоз подсознания материализовавшийся в убийцу по заказу из бесплотного Мальчика, Играющего с Калейдоскопом. А он должен был явиться, этот, такой же, как я, скиталец по временным коридорам, с той же неумолимостью, как оснащенное жалом и хитиновыми челюстями нас
Сексуальная училка по математике
Белобрысая студентка обнажилась на белой постели
Обаятельные подруги с раздетыми прелестями в латексе