Красота русской девочки
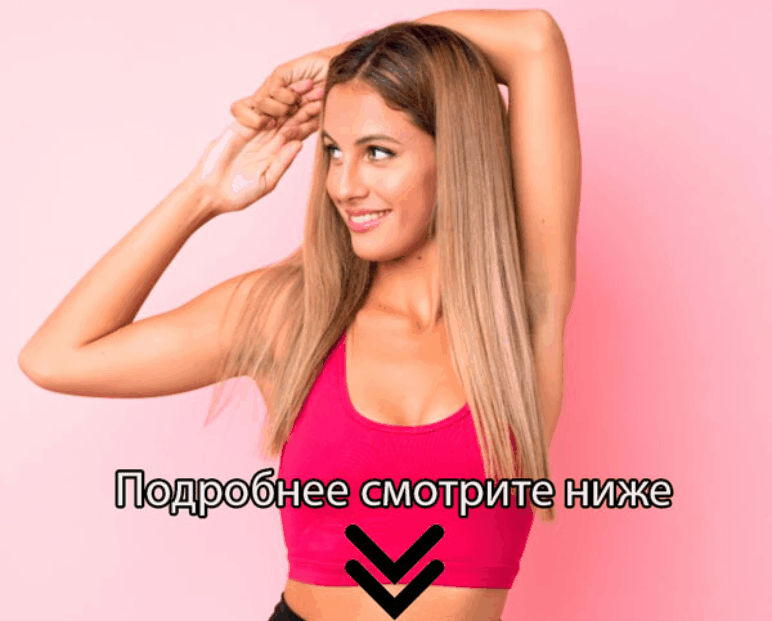
Красота русской девочки
Ihr Webbrowser (Firefox 53) ist veraltet. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf dieser Seite. Browser aktualisieren Ignorieren
политика в области персональных данных
подписаться на рассылку
издательство
сотрудники
распространение
контакты
новое литературное обозрение
неприкосновенный запас
теория моды
новинки
скоро
бестселлеры
все книги
новости
встречи
пресса
конференции
Этой книги временно нет в продаже. Вы можете подписаться на уведомления, и при поступлении книги на склад получить письмо на указанный электронный адрес.
Поздравляем, подписка успешно оформлена.
К сожалению,подписаться не удалось. Пожалуйста попробуйте позднее
Раз в неделю мы отправляем рассылку о книгах и событиях «НЛО». В наших письмах — интервью с авторами и сотрудниками издательства, истории о создании книг, редкие фотографии и видео, сюрпризы и подарки.
За подписку дарим промокод на скидку 15%
Постсоветские «потребительские сказки»
По материалам современной литературы для девочек-подростков
Лариса Рудова — филолог, профессор Помона-колледжа (Pomona College, Claremont Colleges), Калифорния, США. Автор монографий о Борисе Пастернаке, статей по современной русской литературе и культуре.
Отечественная детская литература последних пяти-шести лет активно ориентируется на гендерные интересы своих читателей.
Марина Костюхина. Современная школьница и ее романы
Девушке следует обладать двумя качествами: отменным стилем и умением поражать.
Коко Шанель
Гламуромания уже давно признана новой болезнью века. Не обошло это увлечение и детские души, которые оказались зараженными этим «потребительским микробом». Российский детский психолог Алла Баркан в статье «Подростковая гламуромания» иронически замечает: «Как может очаровать собой кого-то самая красивая девушка, не имеющая в своем гардеробе модных фирменных вещей? Теперь уже детские бальные платья как новый наряд короля в сравнении с тем, что диктует гламур.
А неокрепшая психика вашей дочурки, растущей „принцессой", желает немедленно — все и сейчас» (Баркан 2008). Статусный характер модной одежды оказался более опасным для детской аудитории, чем для аудитории взрослой, и именно поэтому «правильная» одежда оказалась в центре внимания авторов, пишущих сегодня как для девушек, так и для девочек-подростков. Красота как доступный товар — от удачного макияжа до правильно подобранного туалета — широко пропагандируется в литературе, рассчитанной на взрослого читателя. И все же, если в литературе для взрослых это богатый источник «антропологических наблюдений», в которых отражаются не только «породившие их условия», но также состояние современной культуры, «социальные взгляды взрослых и взрослый опыт» (Pattee 2006: 154), то в книгах для девочек подобный подход выходит далеко за пределы девичьих интересов в их ориентированности на систему ценностей, присущую среднему классу. Книги для девочек следует скорее рассматривать как коммерческое предприятие: они сами по себе уже являются предметами ширпотреба. Интерес к этой литературе и ее чтение символизируют определенный стиль жизни, превращая эти тексты в такой же объект потребления, как и описываемые в них товары — символы «правильной» экипировки будущей женщины.
В сегодняшней России настоящий бум в производстве литературы для девочек пришелся на первое десятилетие нового века. Особым качеством этой литературы стала отчаянная попытка совместить в ней преднамеренно дидактическую интонацию с идеологией откровенного потребления и гламура, захватившей умы россиян в годы президентства Владимира Путина (2000-2008).
Внешнее повышение уровня жизни россиян привело к возникновению новых, теперь уже постсоветских иллюзий, одной из которых стала вера в новую модель «достойной» жизни и благоденствия, достижимого для любого человека, стоит лишь постараться[1]. Гламур стал одним из центральных элементов этой новой модели. Гламурная же культура породила в свою очередь образ новой женственности с ее привилегированным правом на удовлетворение личных потребностей, успех в обществе, сексуальность, материальные удовольствия и праздность. Средства массовой информации с энтузиазмом пропагандировали западные стандарты красоты и саму красоту как средство, с помощью которого можно подняться по общественной лестнице к вершинам успеха, превратив российских женщин в ретивых и прилежных учениц, постигающих основы западной моды и языка тела[2]. С этого времени стремление русских женщин к гламурной женственности и стандартной красоте «на западный манер» в самих странах Запада стало притчей во языцех[3].
Значение внешней красоты и гламура в становлении личности современной женщины всячески подчеркивается в так называемой гламурной прозе, особом поджанре популярных женских романов, изобретенном преуспевающим предпринимателем и светской романисткой Оксаной Робски[4]. Ее героини социально и финансово успешны, однако их чудесное восхождение по социальной лестнице происходит отнюдь не благодаря силе их ума или профессиональным достижениям, а скорее за счет их внешних данных и способности манипулировать богатыми и влиятельными мужчинами. Книги Оксаны Робски пользуются особой популярностью, но гламурность в них работает скорее на патриархальные гендерные представления и устои, тем самым поддерживая идеологию сексизма теперь уже в условиях современной России. Хотя гламурная проза рассчитана на взрослых читательниц, многие ее уроки отразились именно в прозе для девочек-подростков — пусть даже и в приемлемой для этого возраста форме. И хотя литература для девочек, несомненно, является всего лишь побочным продуктом гламурной прозы, «избирательное родство» здесь угадывается безошибочно: в центре внимания оказывается новый, скроенный на западный манер, образ женственности, который в свою очередь является результатом потребительского образа жизни.
В данной статье предпринята попытка анализа художественной прозы для девочек как особого поджанра, который можно условно обозначить как постсоветскую «потребительскую сказку». Сам термин «потребительская сказка» (commodity tale) был впервые предложен американской исследовательницей Амандой К. Аллен для описания особой идеологической направленности нарративов для девочек-подростков, создававшихся американскими писательницами в послевоенные годы и годы холодной войны (с 1940-х по 1960-е годы). Используя в качестве отправного момента теорию Пьера Бурдье о вкусе и индивидуальности, Аллен показывает, с какой настойчивостью «потребительские сказки» учат девочек подросткового возраста использовать внешнюю красоту, потребительские навыки, определенную манеру поведения и язык тела для достижения более высокого социального положения. В число наиболее типичных и самых популярных авторов «потребительских сказок» входили Бетти Каван- на, Мэри Штольц, Розамунд дю Жарден и Энни Эмери (Allen 2009). Их книги пользовались широким читательским спросом не только потому, что в них девочкам давались практические советы из серии «как стать женщиной» (Ibid.: 284), но также, как утверждает Аллен, потому что их авторы претендовали на знание сказочной «волшебной формулы», которая сулила каждой читательнице превращение из Золушки в принцессу и обязательное перемещение по социальной лестнице.
Постсоветские «потребительские сказки» аналогичным образом раскрывают секреты социального успеха девочкам, предлагая им научиться премудростям ухода за собой, моде, потребительской грамотности и освоить все важные практические навыки, которыми согласно правилам «потребительской сказки» должна владеть настоящая женщина. Поскольку эти тексты создаются почти исключительно авторами-женщинами[5] и адресованы девочкам подросткового возраста, в них отразилась особая гендерная идеология, которую старшее поколение женщин стремится передать своим юным последовательницам.
Обложки книг американских писательниц — популярных авторов «потребительских сказок»
В этой статье мне хотелось бы проследить важную взаимосвязь между понятием «красота» и формированием гендерных представлений в советской детской литературе и культуре, а затем обратиться к анализу влияния на детскую культуру новых постсоветских реалий. В качестве примеров я приведу две популярные книги, вполне типичные для жанра «потребительской сказки»: «Конкурс красоты в 6 „А"» Людмилы Матвеевой (Матвеева 2001) и «Сердце для невидимки» Светланы Лубенец (Лубенец 2007), впервые опубликованную под заглавием «Мой первый конкурс красоты» в 2004 году)[6].
в советской культуре и детской литературе
Литература для девочек была весьма популярна до Октябрьской революции, но после Октября этот особый тип детской литературы очень быстро угас: большевики не признавали деление литературы согласно гендерным интересам, считая такое разграничение явлением «буржуазным»[7]. В постреволюционные годы детская литература создавалась как гендерно нейтральная: в ней вообще не принимались в расчет эмоциональные потребности девочек-подростков и их пробуждающаяся сексуальность. Юные героини советских литературных произведений не обсуждали свою внешность и наряды, а если такое и допускалось, то занятые своим внешним видом девочки описывались как героини сугубо отрицательные.
Ранняя советская культура одинаково отвергала как буржуазный потребительский подход к жизни, так и коммерческую установку на доминантность сексуальности в женской красоте, предлагая свое решение вопроса: широко пропагандировался новый тип женственности, основу которой составляли «естественность», «здоровье», «гигиена» и полный отказ от использования декоративной косметики (Гурова 2005). Любой намек на провоцирующую сексуальность в одежде, макияж или особую манеру держаться вызывал резкое осуждение. Такое отношение к женской внешности и особенно стремление некоторых женщин в революционной и постреволюционной России выглядеть по-мужски Е. Трофимова удачно называет «революционным трансвестизмом»[8].
Советские женские журналы энергично насаждали новые правила хорошего вкуса и поведения. Образцовая советская «красавица» сталинской культуры должна была придерживаться следующих основополагающих принципов женственности: «аккуратность/опрятность», «чистота», «профессионализм», «скромность» и только в особых случаях — «нарядность» (Тихомирова 2007: 130). Такие принципы составляли основу языка тела для представительниц советского среднего класса и диктовали им нормы женской «приличности» и «культурности» вплоть до конца советской эпохи. Не удивительно, что эти постулаты применялись и в воспитании и обучении девочек, постигавших этот обязательный советский женский язык тела. Тем не менее было бы ошибочно утверждать, что доминировавшие в Советском Союзе официальные настроения требовали полностью истребить любые проявления «искусственной красоты». Советская промышленность на протяжении всей своей истории производила так называемую декоративную косметику, и, несмотря на то что парфюмерно-косметическая продукция обычно рекламировалась как средство личной гигиены, большинство женщин использовали ее как раз для того, чтобы добавить себе хоть немного той самой «искусственной красоты» (Гусарова 2007: 143). Так женское тело превращалось в «арену сражений между обществом и людьми, между стыдом и удовольствием» (Гурова 2008: 252).
Стандарты женской красоты начали изменяться только в годы «оттепели», когда СССР стал более открытым для Запада, а товары широкого потребления более доступными для его граждан. В конце 1950-х — начале 1960-х годов советские представления о «хорошем вкусе» в одежде были дополнены новыми понятиями: «привлекательность, женственность и элегантность», которые прежде считались «мелкобуржуазными» (Bartlett 2004: 143)[9]. К концу 1960-х годов косметические процедуры, к которым прибегали советские женщины, а также их одежда стали более разнообразными и, несмотря на дефицит модных вещей, у женщин появилась возможность лучше одеваться и выглядеть более привлекательными[10]. Однако чрезвычайно живучие в СССР консервативные представления о «хорошем вкусе» продолжали подавлять любые попытки воспроизвести западные образцы женской красоты. При таком подходе не удивительно, что в поздней советской культуре самый «прозападный» тип женской внешности прочно ассоциировался с валютными проститутками и фарцовщицами, которые частенько щеголяли в провоцирующих традиционный внешний вид сексуальных нарядах, подрывая тем самым «приличные» и выхолощенные в сексуальном плане советские стандарты женской красоты.
В советской литературе, адресованной массовому читателю, понятие «красота» трактовалось в соответствии с официальными пуританскими стандартами и настроениями; тем же курсом следовала и детская литература. Советская педагогика стремилась прививать детям любовь к «духовной/внутренней красоте», преднамеренно занижая значение внешней красоты и сексуальной привлекательности. Советские литераторы обходили стороной опасную территорию подростковой физиологии: в произведениях для юных читателей почти полностью отсутствуют какие бы то ни было упоминания о меняющемся теле девушек-подростков и о зарождающемся интересе к телу.
В своей статье «Воспитание чувств a la sovietique: повести о первой любви» Марина Балина пишет, что в советской детской литературе юные героини обладали типично андрогинной внешностью и их шансы быть принятыми в мальчишескую среду на равных увеличивались, если им удавалось «редуцировать» свои физические гендерные признаки (Балина 2008: 157). Таким образом, нет ничего удивительного в том, что многие героини-подростки в советской детской литературе выглядели и вели себя по-мальчишески; на протяжении 1920-х и 1930-х годов в детской литературе не было практически никаких описаний, связанных с физическим, телесным образом юных героев (там же: 155).
Даже если отдельные советские писатели и осмеливались затронуть тему полового созревания или пробуждения сексуальности в девочке- подростке, то прочитать это можно было лишь между строк. Однако, как пишет Жаклин Роуз, даже если детская литература вовсе не описывает изменений, происходящих с телом подростка, она определенно имеет их в виду: «Эта сексуальность проявляется в самом факте ее постоянного отрицания, в неизбежном возвращении к вопросу о ее истоках и о половых различиях, а также к вопросу, в центре которого снова и снова оказывается ребенок. И именно ребенку предстоит вынести всю тяжесть этой неразрешенной дилеммы» (Rose 1984: 27). Советская детская литература не была исключением из этого правила, и сегодня мы видим, несмотря на усиленный контроль цензуры и, что самое очевидное, самоцензуры, что эта тема регулярно возникала на страницах лучших произведений советских авторов. Одним из таких примеров является повесть Радия Погодина «Дубравка» (1960).
Сам образ главной героини Дубравки выстраивается по знакомым уже читателю советским канонам детской женственности: девочку отнюдь не беспокоят вопросы, связанные с половым созреванием; она и выглядит, и ведет себя как сорванец. Но Погодин приоткрывает новый пласт в описании взросления своей героини, когда обращается к сложному миру эмоций созревающей девочки. Она не может освободиться от ощущения покинутости и одиночества, когда те самые мальчишки, с которыми она привыкла играть, теряют к ней интерес и принимаются ухаживать за более развитыми в физическом плане и более привлекательными девочками. Не в силах постичь тайну — понять, что привлекает мальчиков в этих девочках, она ищет утешения в природе: «Она думала, почему так красива природа. И днем красива и ночью. И в бурю и в штиль. Деревья под солнцем и под дождем. Деревья, поломанные ветром. Белые облака, серые облака, тяжелые тучи. Молнии. Горы, которые тяжко гудят в непогоду» (Погодин 2003)[11]. Как бы глубоко и тонко ни воспринимала девочка природу, ее суждения о человеческой красоте все-таки изрядно подпорчены советской идеологией: «А люди красивы, только когда улыбаются, думают и поют песни. Люди красивы, когда работают. И еще знала Дубравка, что особенно красивыми становятся люди, когда совершают подвиг. Но этого ей не приходилось увидеть еще ни разу» (там же: 238). Однако по-настоящему прочувствовать силу физической красоты Дубравке помогает не героический поступок, а появление в доме,
где она живет, молодой привлекательной женщины Валентины Григорьевны. И хотя читатель понимает, что девочка очарована именно внешним видом своей новой знакомой, Погодин избегает всяческого упоминания о неотразимой красоте и сексуальности Валентины Григорьевны, скупо описывая лишь некоторые ее черты: сияющие серые глаза, мягкие волосы и то, что она выглядит как актриса. Кажется, что Валентиной Григорьевной очарованы все без исключения, и сама Дубравка наконец начинает ощущать ее привлекательность: «В этой женщине был какой-то другой мир, еще скрытый от Дубравки. Она даже не пыталась в нем разобраться. Но он тянул ее сильнее, чем море, горы, сильнее, чем всякие яркие краски земли» (там же: 254). Дубравка постепенно открывает для себя силу физической красоты и обаяния, и сам этот факт знаменует конец ее невинного детства и вступление в подростковый период.
По мере того как в советском обществе возрастал интерес к материальным аспектам жизни, менялись и стандарты красоты: помимо физического совершенства, в реестр привлекательности включается умение модно одеваться, ухаживать за собой и флиртовать. Последнее, однако, по-прежнему воспринималось как нечто сомнительное и преподносилось советской литературой в негативном свете. В повести «Чучело» (1981) Владимир Железников очень точно уловил разницу в отношении к женской красоте старшего и нового молодого поколения. Юная героиня повести Лена Бессольцева пытается объяснить своему дедушке, что мода влияет на то, как ее одноклассники воспринимают красоту женщины, а модная одежда позволяет девочке занять главенствующее положение в группе сверстников. Так, о своей однокласснице Шмаковой ге
Рыжая молодая телочка раздевается и соблазняет
Голые красивые бедра симпатичной девушки
Стягивает свой белоснежный лифчик