Грудастая теща в фартуке на голое тело не оставила мне выбора
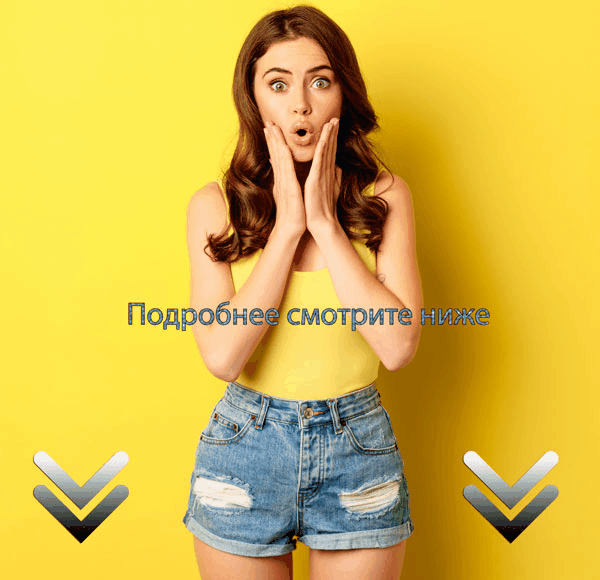
🛑 ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Грудастая теща в фартуке на голое тело не оставила мне выбора
Цвет фона
черный
светло-черный
бежевый
бежевый 2
персиковый
зеленый
серо-зеленый
желтый
синий
серый
красный
белый
Цвет шрифта
белый
зеленый
желтый
синий
темно-синий
серый
светло-серый
тёмно-серый
красный
Размер шрифта
14px
16px
18px
20px
22px
24px
Шрифт
Arial, Helvetica, sans-serif
"Arial Black", Gadget, sans-serif
"Bookman Old Style", serif
"Comic Sans MS", cursive
Courier, monospace
"Courier New", Courier, monospace
Garamond, serif
Georgia, serif
Impact, Charcoal, sans-serif
"Lucida Console", Monaco, monospace
"Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif
"MS Sans Serif", Geneva, sans-serif
"MS Serif", "New York", sans-serif
"Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif
Symbol, sans-serif
Tahoma, Geneva, sans-serif
"Times New Roman", Times, serif
"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif
Verdana, Geneva, sans-serif
Webdings, sans-serif
Wingdings, "Zapf Dingbats", sans-serif
Насыщенность шрифта
жирный
Обычный стиль
курсив
Ширина текста
400px
500px
600px
700px
800px
900px
1000px
1100px
1200px
Показывать меню
Убрать меню
Абзац
0px
4px
12px
16px
20px
24px
28px
32px
36px
40px
Межстрочный интервал
18px
20px
22px
24px
26px
28px
30px
32px
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
И лишь в поступках самых незаметных,
в писаньях самых тайных, сокровенных
Еще хоть раз — чтоб испытать сполна
В терновнике северный ветер свистит.
Да ну его, пусть себе свищет, зуда!
Дофин, мой наследник, не бегай туда.
Как птица в воздухе, как рыба в океане,
Как скользкий червь в сырых пластах земли,
Как саламандра в пламени — так человек
Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?
Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый,
Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны.
Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.
Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо…
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник.
И к шумящему морю, вижу, птичья Русь
Первый гром и путь дальше весенний.
Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
Потом ее открыли, и они действительно
В пивной, так что — свидетелей не осталось.
Я-то знаю (и ты), откуда взялась эта боль!
Жизнь крахмальна, — поступим крамольно
В том-то дело! Не он в нас — целебно,
— Пока! — товарищи прощаются со мной.
— Пока! — я говорю. — Не забывайте! —
Я говорю: — Почаще здесь бывайте! —
У меня была комната с отдельным входом,
и все-таки другое есть Искусство, —
О, сделать так, как сделал оператор —
и, пристально приникнув к аппаратам,
Теперь как раз тот колдовской час ночи,
Ад дышит в мир; сейчас я жаркой крови
Я не приду к тебе… Не жди меня! Недаром
Всю ночь зурна звенит за Авлабаром,
Когда сама душа — сама душа не знает,
Просить или желать — но просит — но желает —
Меня покинул Дух, кровь хлынула из носа,
Но повторяю вслух: всё ерунда, прорвемся.
Меня покинул сон, бессонница несносна.
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
По вечерам ко мне приходит Вронский,
Порасстроялся Питер-город и Москва,
Вот хорош Питер, Москва очень широка.
Ночь встает на колени перед лесной стеною,
Ищет ключи слепые в связке своей несметной.
Птицы твои родные громко кричат надо мною.
Карр! Чивичи-ли, карр! — словно напев посмертный.
— О сердце, не утрать природы; пусть
Я буду с ней жесток, но я не изверг;
Пусть речь грозит кинжалом, не рука;
Дать скрепу им, о сердце, не дозволь!
— Все! Пора! Начинаем представление!
— Король встает! Глядите! Король встает!
Когда «здесь» и «сейчас» теряют значенье”.
Я гибну, друг. — Прощайте, королева
Злосчастная! Вам, трепетным и бледным,
Когда б я мог (но смерть, свирепый страж,
Хватает быстро), о, я рассказал бы… —
Ты должен идти по дороге, где не до восторга.
Чтобы постигнуть то, чего ты не знаешь,
Ты должен идти по дороге отчужденья.
Ты должен пройти по дороге, где тебя нет.
И что ты не знаешь — единственное, что ты знаешь,
И чем ты владеешь — тем ты не владеешь,
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
Что слабых звезд я осязаю млечность?
“Который час?” — Его спросили здесь,
А он ответил любопытным: “вечность!”
С предательским лобзаньем на устах.
служителям его внушал гадливый ужас.
Они подозревали нечто, но не смели высказать,
Что он и вправду выходец из ада, демон:
он поздно ночью из своих покоев вышел
Так я хочу. Так свойственно мне знать,
Что и ко мне придет она в свой час.
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.
Медленно и чинно сходим со страниц.
Шелестят кафтаны, чей там смех звенит,
Все мы — капитаны, каждый — знаменит.
Нет на свете далей, нет таких морей,
Но суть не в том. У жизни есть любимцы.
Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была…
В Сибири далекой — тайга, снег и ветер.
Но поляк не сдастся ни за что на свете.
Перед врагом не дрогнет, даже если сгинет.
Мы вернемся в Польшу, Бог нас не покинет.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
Самый первый “дневник”, в самодельной тетради с твердой зеленой обложкой, завел лет в четырнадцать. Тот, пропавший, где я якобы написал на первой странице: “Не перестаю удивляться гению Толстого”.
На самом деле я это придумал гораздо позже, уже во ВГИКе, — для смеха.
То, что я писал уже много лет, сначала в тетрадях и записных книжках — рукой, потом на машинке, потом на компьютере, — это никак не дневник, скорее — книга отзывов на всё-про-всё, в некотором смысле даже книга жалоб и предложений.
Как только есть возможность — сбегаю, эмигрирую. Туда. И мои записи за все годы — по сути, свидетельство о втором и предпочтительном гражданстве, тайно самим себе выданном и заверенном временем.
Но так и не успел ни с кем ни объясниться, ни себя объяснить — даже с самим собой, даже самому себе. И вдруг подумал! А ведь никто меня не знает по-настоящему. Хорошо это или плохо?
Когда-то в детстве по ночам я придумывал себе восхитительную судьбу.
Я радовался под одеялом своим изобретениям собственной будущей — и при этом как бы настоящей — жизни, ставившим меня в такое восхитительное — высшее, блистающее, вызывающее мой собственный восторг — положение. Я дрожал от счастья, смеялся и захлебывался. И верил! И много лет я так играл в себя — другого. Только менялась — на порядки — степень наивности и изобретательности. Жизнь вокруг менялась с возрастом, а игра оставалась. Кем я только не перебывал за это время: и великим актером, и великим летчиком, и великим философом, и, наверное уж, великим писателем…
Как и многие, я всегда подозревал, что я это не я. Но в каждом возрасте по-разному. В детстве я очень хотел быть не я, хотел быть не собой, а кем-то великим. В юности меня стал занимать вопрос: почему я это я? И в то же время упорно старался доказать всем и себе, что я это я. А когда я становился старше и грешил, то после каждого греха подозрения, что я это не я, всё усиливались и усиливались. Но все равно я возвращался к себе. Ну вот, а теперь остается только притвориться не собой, чтобы смерть не узнала и прошла мимо.
“Сюжет — это использование всего знания о предмете”.
Я однажды подавал шубу кумиру моих юных лет Шкловскому. Это было, когда умерла Нина Яковлевна Габрилович, Зиночка из нашего с Авербахом фильма “Объяснение в любви”. И он в похоронный день пришел к Старику, он же Филиппок. И я принес ему шубу из прихожей в кабинет, где они стояли с Габриловичем. Шкловский никак не мог попасть в рукава, потому что одновременно продолжал выражать соболезнование, и тайно злился на то невидимое за спиной, что так неловко сзади напяливало на него шубу. А это был я, и я волновался. И враждебную эту жесткую и тяжелую шубу я запомнил больше, чем Шкловского.
Узнавая в изданной в 2006-м “Книге прощания” растворенные там “Ни дня без строчки”, вспоминаю, как я ему обязан. Может быть, идея этих моих записей — от него?
“Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная”.
“Ни дня без строчки”? Даже если эта строчка — не твоя?
Насколько все-таки я завишу от чужих умов, мои догадки — от их открытий?
Часто я использую ее как насильник. Каждая цитата здесь не только часть моего “интеллектуального или духовного опыта”, она еще и — в некотором смысле — мое собственное высказывание, мое признание, моя откровенность.
Иногда наступает такая степень близости между мной и источником, когда мне кажется, что его мысли — мои мысли, и я не испытываю никакой неловкости, пользуясь ими, как своими.
“Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает”.
Известно, что жизнь и судьба человеческая решаются в споре между Богом и сатаной. (Иов). И в этом споре Бог вовсе не так активен, как дьявол, он больше доверяет человеку, он не кукловод. Может показаться, что Бог наивнее, а дьявол — больший психолог? Но это заблуждение.
Что же зависит от человека? Собственно, это и есть главный вопрос и философии, и искусства.
Я всегда думаю, почему я такой счастливый человек. Я ведь мог не родиться. Но они встретились, эти двое — с помощью третьего, моего дяди, писателя Виктора Дмитриева, которого я никогда не видел и который мог застрелиться до того, как их познакомил. Я мог погибнуть в войну. Ведь немецкая бомба, попавшая в наш балкон, могла разорваться, а не зарыться в землю. И я мог в тот момент быть не в эвакуации, а дома, на Фурманова. Разве это не счастье? И в эвакуации я мог умереть от диспепсии, если бы не было нужного лекарства взамен того, что вдруг сдуло с подоконника ташкентским ветерком. Но я не умер. Разве это не счастье? Впоследствии я мог стать негодяем, вором, стукачом. А почему нет? Но ведь не стал. Разве же это не счастье? Я мог не прочитать то, что я прочитал, не увидеть то, что увидел, не побывать там, где я побывал. Но прочитал, увидел, побывал. Могло не быть сына. Я мог не встретить мою жену Иру и нашу дочку Катю. Я мог не встретить тех, кого встречал и с кем дружил. Но я их встретил. Разве это не счастье?
Я насильно вырвал свою жизнь из какой-то иной, возможно предназначенной мне, судьбы. Может, это была ошибка?
Но я всегда радуюсь, что живу, и всегда мне по этому поводу как-то неловко.
Друг моей молодости, очень тогда близкий, Валя Тур смешно говорил про меня, что я знаю всё — и всё неточно. И был недалек от истины.
По частям — мне кажется — я могу понять всю свою жизнь, но в целом она мне никак не дается.
Видимо, я все-таки действительно что-то о себе не знаю.
“Невозможно же жить и работать с неутоленным желанием иметь ангельски чистую совесть”.
А почему, собственно, я не должен гордиться собой? Кто мне это внушил? Кто заразил мою душу постоянной болью самоуничижения и неуверенности? Кто? Я сам. Слишком много гордыни, слишком много грехов, твержу я себе постоянно и тоскливо — и этим только умножаю их.
Образ моей жизни, моей судьбы, моей слабости и силы. Мальчик по имени Сашка — придуманный мной — мой вечный герой. В разных ипостасях. И в разных сочинениях. И разных возрастах.
Вот он — в сценарии “Ожидание” — тонет в реке и отталкивается ногами от дна, чтобы пробить головой толщу воды и схватить ртом немного спасительного воздуха, перед тем как снова потянет на дно, и опять оттолкнуться, и опять наверх…
“Так давайте в наш собственный внутренний мир мы опустимся гораздо глубже, чем обычно, и тогда гораздо более мощная сила вытолкнет нас к поверхности”.
И тут Он выпускает тебя из рук и говорит: “Плыви”. Ты кричишь, захлебываясь: “Я же не умею плавать”. И Он говорит, исчезая: “А мне какое дело?”
Какой, оказывается, гениальный смысл в поговорке “На Бога надейся, но сам не плошай”. Здесь все, что нужно, о свободе воли. Вся идея отношений Бога и человека.
Все-таки истинно верующие те, кто верит в ад как в совершенную реальность.
Кто думает, что в раю живут воспоминаниями, ошибается. Воспоминаниями живут в аду.
Я родился в високосном году. Ровно за год до начала войны.
Когда рождается новый человек, Бог о нем наперед знает всё — или каждый раз надеется?
Отец Павел Флоренский написал в “Именах”: “Павел есть прежде всего хотение, влечение, томление ”. Похоже на меня?
С самого детства, родившись у своего отца Константина Финна, театрального драматурга и, между прочим, автора “Окраины” — повести и сценария фильма Бориса Барнета, — я неверно, ложно понял, что такое писатель и что такое писательство. И это принесло мне наибольший вред — для дальнейшего. Однако, не родись я так, как родился, что бы было со мной вообще?
Я никогда не признавал себя писателем. Сценарист — и все, мне этого достаточно. В юности меня, естественно, раздирали в разные стороны влияния — Бабель, Олеша, Хемингуэй, Пастернак, Дос-Пассос… Когда я успокоился и выработалась кой-какая дисциплина сочетания слов, мне стало неинтересно писать выдуманную неправду. Для этого мне хватало и кино.
“Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит…”
Не хочет быть человек тем, кем ему назначено быть. Не хочет, мучается, страдает, бьется, съедает себя, сжирает…
Любая человеческая жизнь — это комедия, разыгрываемая перед Господом. А Он чего ждет от нас? Трагедии? Во всяком случае, не того, что люди перед ним разыгрывают. Это прекрасно понимал Чехов, упорно называя свои пьесы комедиями.
Как важна для меня эта “тема” — подросток.
“…Ибо, — как написал Достоевский, — из подростков созидаются поколения”.
Вновь — заново — пережить переживания того — несчастного, одинокого — возраста — со всеми его запахами и заусенцами, слезами и пороками?
Вот улица Фурманова, вот Гоголевский бульвар, вот метро “Дворец Советов”, а вот котлован с водой и плотами на том месте, где должен был быть этот Дворец Советов.
Действующие лица — я сам, моя мама, отец, брат, отчим.
Начнем с конца, то есть с начала романа.
Роман про мальчика, ставшего стариком.
“Роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает вам лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы”.
А если зеркало разобьется? Разлетится на осколки разного размера и формы? Все равно — каждый осколок останется зеркалом.
Много лет назад один маленький актер, красавчик с утиным носом, перекати-поле, странствующий неудачник и мелкий интриган, в приступе мании величия захотел сыграть Гамлета в провинциальном русском театре. Много лет спустя его пасынок, старый, больной и одинокий, лежал ночью на кровати, отвернувшись к стене, в дощатом дачном домике, на краю большого леса. Над этим черным лесом две птицы куда-то летели, одна и говорит другой — на русском языке: слыш-ка, сестрица, тёмно, ночь, давай переждем, переспим, а то как бы в этой тьме-тьмущей злая птица нас не загубила. Нельзя, говорит ей другая птица, у нас с тобой, сестра, важная забота есть. Видишь, там, где темная заря и где лес кончается, несчастливая береза растет, под той березой дом стоит. Вижу. Так нам туда долететь надо. Летят дальше. Другая птица и говорит: ох, устала я, сестрица, давай переждем, переспим. Нельзя, говорит первая птица. У нас с тобой, сестра, еще одна важная забота есть. Видишь, в темном лесе мальчик блуждает. Вижу, глянула вниз птица. А там черт из мутного пузыря выскочил. Хорошо, орел-орлович подоспел, железными когтями поднял Сашку за плечи, перенес над темным потоком. Еж подкатился Сашке под босы ноги, вывел-таки на невидимую дорожку. Серый волк подставил спину. Яблоня протянула черное яблоко. Тут над лесом звезда расцвела в черном небе, холодный лучистый цветочек на бархате небосклона. Внимание, сказала звезда. Будь предельно осторожен, будь стопроцентно внимателен, мальчик. Не верь никому, ни птицам, ни яблоне, ни печке. А уж кто-то гнался за мальчиком, топча и ломая сушняк, шумно вздыхая и ворча. Помогите, стонал человек в дачном домике. Он чувствовал, как его зрачки плавают во влаге, слюна вытекала из краешка рта на подушку. К стене отвернувшись, шептал: ты один, дурак, ты один — вот итог — всё, ты один. Сирин и алконост, сказал он вдруг громко. Два слова с женскими лицами, мгновенно став птицами, с шумом и пением вырвались на волю и полетели над черным лесом. Вот летят они над страшным местом. Злая ночная птица громко щелкнула на них жадными острыми зубами, замахала перепончатыми крыльями. Ох, не долететь нам, сестрица, не сделать дела, не выполнить поручения, говорит тут одна птица. Ох, крепись, сестрица, отвечает другая птица, не сделаем дела, не выполним поручения, домой Хозяин не впустит. Лети без страха, лучше спой мне, я послушаю, потом я тебе, так и долетим. Помогите, говорил человек, помогите, кто может, я один, меня все бросили, я беспомощен. Господи, дай мне утиный нос, дай мне сыграть Гамлета в пропахшем зеленой масляной краской театре!
Голос в темноте — особый звук, слушающий себя — в темноте, — всегда кажется себе еще более одиноким.
Мне очень нравится мысль Цветаевой, что каждая делаемая вещь — враг, личный враг. Настоящая работа — враг, и я нападаю на нее неожиданно, из засады. Но потом отступаю — бесславно.
Я живу с этим врагом уже полжизни… С этим “романом”, который то исчезает, то возникает, и все равно — остается ненаписанным…
— Вона куда забрел малый, — сообщает одна птица другой.
Это они в финале видят Сашку в снежном поле, выкинутого с поезда, на котором он едет хоронить то ли Сталина, то ли Пушкина. И он идет босой по белой целине — за своим Ангелом-поводырем, в надежде все-таки перейти поле.
Увидел на сверкающем разноцветном снегу отпечатки легких ног, не отвердевшие, словно только что живые, теплые стопы коснулись этой раскаленной морозом сияющей поверхности. Кто-то до Сашки уже прошел этим белым путем. Он взял чуть вбок, следы словно свернули вместе с ним и вновь оказались перед ним. Теперь, куда бы он ни сворачивал, они были впереди. И он вложил свои стопы в них и пошел указанным путем…
Драматическое и мучительное расставание ангела с самим собой — это с трех примерно лет. Контуры покидают тело и существуют теперь отдельно, наполненные не бренной плотью, а бессмертным светом.
Но когда заканчивается безгрешный период и нас покидает Ангел Детства, на его место сразу же устремляется неумолимый бессонный демон с компанией.
Человек — это катастрофа. Ум и тело рождают химер. И главная — на всю будущую жизнь — забота — ума или тела? — пережить, умилостивить химер, сговориться с ними или бросить им вызов.
Всю жизнь моим демоном был возраст.
И конечно, желание быть старше — это желание расширить свою жизнь, которая, как казалось, была необычайно узка по сравнению с жизнью взрослых. Это чувство расширения жизни вызывало захлебывающуюся радость и самозабвение. Оно иногда переходило границы, и забывалась разница между собой и старшими.
Бунт против возраста в детстве и примирение с возрастом на склоне — два полюса. Но я не желаю примиряться!
Как печально и как неправильно — хотя, наверное, правильно — то, что самый лучший возраст — момент произрастания — так драматичен для растущего — и так непонятен для растящих.
Мне всегда очень жалко детей, особенно мальчиков, своих — в первую очередь. Потому что я лучше многих знаю, какая трудная перед ними дорога и какие демоны подстерегают за каждым поворотом.
Идеалистами мы рождаемся. Реалистами нас делают сложные отношения с собственным пенисом и первый выдавленный прыщ.
Мир — сосуд, полный непрерывно кипящей и никак не выкипающей чувственности. Ах, если бы душа, ум и плоть думали и чувствовали одинаково!
А дьявол постоянно тычет когтем туда, где плоть особенно беззащитна и особенно прелестна. Для дьявола есть больные места в человеке, которыми он ловко пользуется.
Чувственность — и всё, что н
Похотливые русские домины используют мужика для своих лесби игрищ
Сочный Домашний Минет
Негр Ебет Белую Женщину А Муж Куколд Снимает На Телефон