Грациозная сучка с золотистым загаром получила сперму в лицо
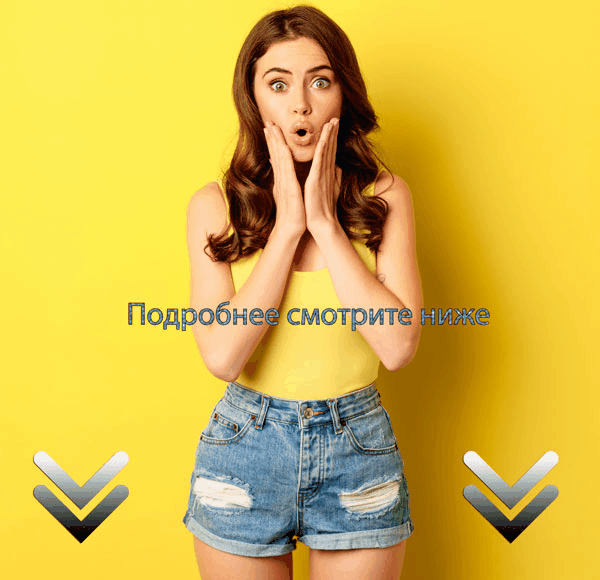
⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Грациозная сучка с золотистым загаром получила сперму в лицо
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Home › Проза 5 сезон › Анна Чухлебова
121099
Москва,
Новинский бульвар, 8, секретариат премии «Лицей»
lyceum@pushkinprize.ru
21 история о том, что умерли не все (18+)
В моей голове пик-пик-пик и мигает красная лампочка.
Никаких акций. Ты заберёшь только свое и ни граммом больше.
Денег захотел? Ишь чего! Приходишь с двенадцатичасовой, а он лежит как прокладки 2 +1.
Да какая я тебе Зина, даром что из магазина. Я мечта поэта, только стихов нету. А тебя, скотину, я выгнала. Не для тебя бабка помирала, чтоб однушку мне оставить.
— Без мужика, Зинка, пропадешь, — так и хрипела, пока я ее подушкой душила. Потому что возраст, дыхание затруднено. Пора на покой, к другим покойникам.
Ни карты, ни совести у тебя нет. Нихрена у тебя нет. Два года без работы! Борщ вари, в хате убери, ублажи, отсоси. То ли дело на кассе. Течет лента вдаль, серая река. По ней товары первой необходимости. Молоко, пиво, памперсы — к семье. Горошек, варёнка, майонез — к салату. Водка, селёдка, огурчики — на все прочие случаи. Сканируешь пик-пик-пик, а сама читаешь, как цыганка по руке. Шампанское, конфеты, гондоны — к блядям. Если подавятся — беги, на зоне не сахар.
А теперь я буду жить. Гляди, какие стрелки на работу накрасила. Вот Серёжа, хороший мужик, охранник. У него и работа есть, и выправка, будто родился в форме. Крем для бритья, ветчина, сканворд — интеллектуал. А тебя я выгнала, потому что ты говоришь, что я не женщина. Жопа у меня ого-го-го, но не женщина. В женщинах нежность нужна, а я как дам тебе скалкой. Потом ты мне кулаком. И поэтому я тебя выгнала. В ресторан схожу, возьму мороженое в креманке. У нас два кило можно за те же деньги, но дома фрукты так красиво не нарежешь, платье не нацепишь. Дома все не так. Отодвинешь диван, а там носочек твой одинокий, на большом пальце дыра, черная дыра и одиночество с космос размером. И поэтому я тебя выгнала, мне своего одиночества хватит, а тут ещё твое камнем на шее. А чудо в свободе.
У Тани два худых пегих хвостика, содранные коленки, зелёные, как у рептилии, глаза, родители-наркоманы. В мартовскую метель её беспутная мать постучалась за солью, кажется. Пока взрослые переговаривались на пороге, Таня зашла в квартиру и стала со мной играть.
В тот день мы катали машинки по полу и Таня устроила гараж под креслом, чего я сделать прежде не догадался. Веселая Таня, выше локтя и над коленом налитые, сочные синяки.
— Попроси маму покушать. Только не говори, «Таня хочет», скажи «мы хотим», понял? — шипела она на ухо.
И я делал, как Таня велела, и мама выносила хлеб со сливовым вареньем, и мы плевали косточки в пузатую миску. Я рассказал Тане, что больше всего люблю, когда в окне кружит несметная воронья стая. Она принесла с собой кукол и елозила одной по другой.
И я чувствовал себя дураком, но соврать, что все знаю, не умел. Тане было плевать, её живот гудел голодно и зло.
Впрочем, длилось это недолго. Однажды Таня позвала меня в квартиру этажом выше. Другой мальчик — белобрысый, с плаксиво-красным, мятым лицом — хвастал перед нами банкой кошачьего корма, как из рекламы. Эту банку мы приставили к игрушечному роялю в качестве табурета, Таня облокотила на нее запястье и побежала пальцами по клавишам, извлекая прозрачные, стеклянно-хрупкие звуки. Из еды у мальчика были бутерброды с покупной колбасой, сладкая консервированная кукуруза, конфеты в коробке с алыми розами. Так мы и играли втроем, и когда Таня заболела, я, маясь скукой, пошел к нему один.
— Танины родители наркоманы. И сама она наркоманка, — посмеялся мальчик.
Я толкнул его, он толкнул меня сильнее, я упал и расплакался от обиды. Его мать привела меня домой, а я все ревел. Не смог отстоять ни себя, ни Таню. Ко мне она больше не приходила. Когда стало тепло, видел их вместе, пока мама тащила меня за руку через двор — была Пасха, и мы нарядные шли на кладбище. В глазах Тани промелькнуло нежное сожаление, и что-то похожее во взгляде я встретил, когда мы с мамой шли длинными аллеями, и я крутил головой и глядел на памятники. Потом Таня исчезла, моя мама говорила, что она теперь живёт с бабушкой, и я на цыпочках подкрадывался к двери ее старой квартиры, и слушал неясный гам, музыку, голоса. Иногда на пороге топтались выцветшие, пыльные тени, из общего месива отделялась, должно быть, женщина. Со звериною силой она молотила в дверную обшивку. Я отшатывался от глазка и вернуться к игре мог не сразу.
После была моя первая школьная осень. Затем вторая, и третья, восьмая и девятая, пятерки и двойки, первая сигарета, любовь, банка пива — простая арифметика взрослеющих детей. Как-то уже студентом я шел с одной вечеринки на другую. Время было к полуночи, в воздухе повисла золотистая от света фонарей морось. Прохожих почти не осталось, и я удивился, когда заметил девушку в мини, курящую у аптеки. «Ну точно, Красноармейская» — пронеслось в голове имя улицы, нарицательное той же породы, что и квартал красных фонарей.
— Хочешь со мной? — прохрипела она.
Я не особо хотел, но голову повернул. Из-под слипшихся от тяжелой туши ресниц смотрели давно забытые, до боли знакомые, зелёные, змеиные, Танины глаза. Деньги свои она отработала в беспечно незапертом подъезде, и мне было так тошно потом, когда она, застегиваясь и отряхиваясь, посмотрела на меня с ледяной брезгливостью и сказала:
— Ну что ж, Алёша, теперь ты точно знаешь, что такое трахаться.
Петров плевался жеванной бумагой. После уроков плакалась маме, она только:
— Хватить ныть, Маша. Ты же учительница!
Когда рыдаешь в очках, на стеклах остаются грязные разводы. Три тряпочкой или не три — не поможет. Как не помог шугаринг выйти замуж. Подружка уговаривала:
— Попробуй, тигрицей себя почувствуешь!
А я вспомнила про драную козу. И ревела так, что все очки заляпала. Черт знает зачем — у меня и колгот тонких нет, все с начесом. Холодно потому что, мне всегда холодно. Мама говорит, это от отсутствия любви. Я уверена — виновато кровообращение. Смотрю на себя утром и прям вижу голубой отлив на лице. Крови во мне почти нет — зарежь и еле пол-литровую банку нацедишь. То ли дело петушки. Я беру раз в месяц черного на рынке. Завтра суббота, значит, пора. Выбрала крупного, пока сажала в мешок, все руки изодрал. Царапины вздулись под кожей, как сытые червяки. Отнесла домой, дырочек в мешке наделала — задохнется еще, пока к маме пойду.
Мама только сербает чаем в ответ — ну нервная у меня работа, что поделаешь. Руками развожу — да ничего. А сама только и думаю, как там мой петушок на кухне. Домой вернулась, а он бьется, мешок ворочается, надувается. Сил готовить нет, а есть хочется — нашла в морозилке куриные палочки. Нажарила по-быстрому, ну а что, с кетчупом очень даже. Кинула петушку одну, он поклевал.
Завязала мешок и ушла в комнату. Там у меня роман, недочитанный. Мечтала себе, мечтала, глядь на часы — полночь. Пора. Натянула колготы, юбку, жакет, петушка в охапку и вперед, на кладбище. Благо тут рядом, через дорогу. Сто лет назад холерных вповалку складывали, равенство, братство, вот назвали кладбище Братским. Теперь чужих не хоронят, только своих подселяют. Сирень цветет у забора, запах с ног валит — хорошо. Петушок только совсем сник. Ну я его за шею, шею ножом, голову прочь. Пустила на могилку побегать, а сама слова волшебные шепчу — для кровообращения, для бракосочетания, для деторождения. Отшептала, петушок и затих. Подумала, может порчу на Петрова попробовать навести, совсем надоел. Присела на скамейку, гуглить начала — советуют разное, да мороки много. Фотку распечатывать некогда, землю с кладбища набрать некуда, кресты выстругивать я просто не умею. Ну его, Петрова этого. Да и грех. Он же ребёнок. Сидеть холодно, пора идти помаленьку. Чуть не забыла кровью губы смазать, вот же Петров, и тут пакостит. Потянула петушка за лапу вверх, а ладонью обрубок шеи сжала. Течет, пузырится, еще теплая. Черканула по губам и сразу жарко стало, а ведь я и в бане мерзну. За оградой смутно маячат фонари, с памятников смотрят бледнолицые и равнодушные покойники. Все-таки зря я тогда физику выбрала, мне бы литературу преподавать.
За лето зарезала трех петушков — Авраама, Василия, Дмитрия. Как-то не по-людски, когда домашние животные без имени. Авраам был смирный, Василий пребольно клевался, Дмитрий особых примет не имел. Толку от резни никакого, правда. Согреваешься сразу, а на утро опять синева по коже. Женихов за плодотворное лето не прибавилось. Между Авраамом и Василием съездили с мамой в санаторий в Анапу. На танцы ходила — атас. Губы красные, платье атласное, каблуки опасные. Стою в сторонке такая вся красивая, а танцевать и не танцую особо. Музыка орет дурацкая, да и больно спляшешь на каблуках. Подкатил один как-то:
Рядишься-рядишься, а мурло интеллигентское и в потемках видать. Но отбрехиваться не стала, пожалела честь мундира:
— Палочки, наверное, трете. Эбонитовые.
Я глаза как выпучу, а он пятится и через ступеньку кувырком. Упал пребольно, должно быть, ну я переступила каблучком аккурат перед его носом, и спать ушла. Наутро соседка маме рассказывала, что на танцах перелом был. И верно — единственный гипс на весь санаторий. В столовой чуть компотом не поперхнулась, как увидела.
Дмитрия резала в конце августа, с ленцой так, больше от привычки, чем веры в волшебные силы. Петушок совсем вяленький, больной что ли, не знаю. Луна белит верхушки деревьев, пахнет влажным сеном, кровь петушка по рукам как перчатка в облипку. Славная ночь, а ведь скоро опять работа. Петров, поди, вымахал за лето. Может, хоть потрогал кого на каникулах, влюбился, расстался. Страдай, фашист.
Первого сентября на небе хмуро. «Погуляли и хватит» — сообщает природа. Мрачно натягиваю колготы с начесом, тру очки тряпочкой, вдаль на тучи гляжу. В школе цветов, как на похоронах. Даже мне букетик кто-то сунул, вот спасибо. Сфоткать, соврать маме, что от мужчины? Смех только, пять гвоздичек. Нос сунула на линейку — восьмиклассницы пляшут в коротких юбчонках, нет, да и сверкнет кто трусами — самодеятельность. Танцуйте, курочки, пока яиц не нанесете.
Гляжу в школьный дворик, позевываю. Тут замечаю — мужчина. Лоб высокий и сам высокий. Борода там, очки. Глаза синие, как горизонты. Сдохнуть можно. Пялюсь украдкой, а гвоздички в руках дрожат-то, трясутся. Встречаемся взглядом, а в груди теплом валит, как от только что забитого петушка. В романах написали бы: «её сердце билось, словно трепещущая пташка». Так все, конечно, и было, только не в романе живем, понимать надо.
— Григорий Викторович! С Марией Алексеевной познакомились уже? Какой быстрый! — слащаво визжит директриса и вечность застывает, как старый, засахарившийся мед.
Остальной день помню плохо. Кое-как провела пару уроков. Выудила зеркальце из-под собственного стула — броня моя с начесом. Выхожу, а за дверью, как там тебя, Григорий Викторович, прекрасный, словно все моря и океаны на свете. Шмыгаю мимо, понезаметнее, а он мне вслед:
Оборачиваюсь, а у самой колени от холода ноют. Жмурюсь, сглатываю. Эх, не так все нужно делать, не так.
— А я историк, палки у меня только копалки.
Хихикнула в ответ высоковато, сроду от себя таких звуков не слышала. Глядит, как корчусь, внимательно и ласково будто. Аж унылый беж стены синеет от его глаз.
— А давайте кофе выпьем, вы как, свободны?
Мямлю, а по телу кипяток шпарит. Уж не знаю, как понял, что согласна. Идем в кафе. Поспорил он что ли с кем, на слабо взяли? В учительской такие разве бабы. Нафуфыренные, есть и совсем молоденькие, только после университета. Кофе хоть обпейся с этими фифами. Разговор держу, но рот словно сам говорит, мышцы лица сокращаются, язык во рту двигается. Мозг подвох ищет, летает где-то. Григорий Викторович улыбается меж тем благонравно, так ему хорошо и приятно со мной якобы. Руку берет трепетно — а сам ледянее, чем я обычно бываю.
Домой проводил, ручки расцеловал на прощание, аж немели от холода ручки. На другой день шоколад с записочкой в ящик стола подложил — жду вас в два на стадионе, прекрасная Мария Алексеевна. На третий цветы были — да какие, каждая роза с полголовы. Вот сейчас бы сфоткать и маме отправить, но рука не поднимается, спугнешь счастье будто.
Учительская шепталась, конечно, как не шептаться — Григорий Викторович за мной ходит привязанный, как теленочек. Они все рядятся, а он только за мной. Ну я много не позволяла, а он все равно жениться позвал спустя три недели. Целуешь его и будто мороженым по губам елозишь. Шептаться перестали, заговорили в голос. Дескать, вы посмотрите на него, глаза ввалились, бородой оброс, кофе донести до стола не может — руки трусятся, пол в липких лужах. Я и не видела ничего, не замечала. Потом иду как-то по школьному коридору, а навстречу он — левый ботинок черный, правый рыжий. «Попал историк в историю» — комментировали местные остряки. Я ему:
— Григорий Викторович, ничего не замечаете?
— Кроме красоты вашей, Мария Алексеевна, ничего.
И глядит на меня, а глаза уж не море. Выражение такое встречала лишь однажды, в краеведческом музее. Там чучело лося в натуральный рост, вылупилось, стекляшками сквозь мои ноздри, прямиком в мозг. Вот и Григорий Викторович смотрит, как мертвый лось. Главное, на меня только, ни на кого больше. За неделю до свадьбы поплохел совсем, взял больничный. Директриса только охала на педсовете:
— Мужчины устроены тонко, понимать надо. Это на нас хоть паши.
Да какая я ведьма! Любовь просто. Сразу после педсовета набрала — не ответил. Пошла к нему, с апельсинами под дверью стояла — настоящая невеста. Не открыл. Заволновалась, родным бы его позвонить, да не знаю их номера. Мы и звать на свадьбу никого не планировали — нечего им. В дверь тарабаню со всех сил уже, кулаки посбивала, носки у туфель. Пакет разодрался, апельсины по лестничной клетке прыгают, катаются. Села, спиной облокотилась о дверь, подурнело. Нашла меня тетка-соседка, расспросила, охнула, позвонила куда надо. Вскрыли дверь — а он уже каменный.
Дальше темно, затем пластилиновый мультик — черная яма глотает красный кирпичик гроба, жует мечтательно, пузырится свежим черным холмом. Примеряет венки как ожерелья, пушится, хорохорится. Григорий Викторович непонимающе глядит с фото в рамке — что за парад, он же никого не приглашал. Вот и я не знаю, чего они все приперлись, милый.
В школе жалеть меня пытались, да только мне все равно было. Вышла в понедельник, шесть уроков отвела, настроение такое, ничего себе. Глупости это, время величина простая, физическая. По пространству ходим туда-сюда и по времени пойдем, если захотим. Прям печенкой чувствовала, не навсегда это. Могила пожует-пожует и отдаст, наигравшись. Кладбище, кстати, моё было, любимое. Он ведь из местных, у них забронировано — центр города, элитные места. Только без парковки, разве что. Располагайтесь комфортнее рядом с дедушкой и бабушкой. Вот вам и столик, конфетка в обёрточке — фантики, чур, самовывозом.
Мама его звонить стала. Славная бабка, только уж грустная больно. В сорокет родила, может, и у меня еще не потеряно. Про результаты вскрытия какие-то мутные рассказала — всё в порядке, только мертвый, разве что.
— Да неучи они. У меня Петров тоже в мед собирается, а сам путает нейроны с нейтронами.
Мама его только ревёт в ответ, глупая. Поболтали раз, другой, третий, я и трубку брать перестала, поперёк глотки эти глупости. И ведь не объяснишь ей, как на самом деле всё обстоит, не поймет. Сама заскучала — сентябрь-октябрь и без петушков заняться было чем. Теперь уж пора, только не в праздник этот бесовский, прости Господи. Ещё мне с дураками какими ночью столкнуться не хватало.
Новый петушок мне ладный достался, крупный. Пусть уж Леонид будет. Мешок под ним ходуном ходил, зверь так зверь. Ноябри у нас мягкие, но пакостные — вроде и плюс, а продерёт до костей. Еще и ночь, и морось, и туман. Ну а мне что, оденусь потеплее, не привередливая. За оградой деревья скелетики, хотя в городе еще листья. На кладбище времена года отчего-то быстрее сменяются, осенью раньше оседает, но и весною скорее веселеет. Может, покойники хором ворочаются и в землю сырую разряды дают. Григорий Викторович теперь тоже старается, за коллектив он всегда горой.
Раньше пугливая была, резала сразу за оградкой. Теперь у меня свои люди здесь, всё схвачено. Прямо по главной аллее, у могилки ребенка налево — год жизни и десяток лет безвременья, сон стережет щекастый ангел на гравировке.
— Баю-баюшки-баю, — аж пропела ему, не удержалась.
Петушок взволновался, запрыгал, еле сдержала. Ну, ладно, пришли уже. Григорий Викторович с креста глядит радостно — заскучал, милый, не ждал так поздно гостей. Впрочем, рассиживаться впустую холодно, дай лучше фокус покажу. Вынула нож из кармана, чиркнула верёвку у горла мешка.
— Знакомьтесь, Леонид, — так и представила петушка жениху, ну а что.
Леонид высунул голову из мешка важно, как директор. Скучно глотку резать стало, сколько можно глотки резать. Надо бить в грудь, чтоб было красиво. Стиснула его между коленями прям в мешке, хватила ножом. Бьётся, бешеный. Я ещё и ещё, кудахчет, орёт, полошится. Промахнулась раз и по икре себя полоснула — нож острый, ткань брючины и колготы под ней разошлись, у разреза мокреет, ветер. Леонид не сдаётся. Сатанею от боли, швыряю на землю нож, сворачиваю петуху шею голыми руками — ну тебя! Обмяк, наконец. Фокусы она жениху показывает, как же. Стыд сплошной, как в глаза смотреть только. Положила ему петушка в голову — курятина тоже неплохо, раз с апельсинами не задалось. Ни крови не захотела, ничего — домой пора, с самой течет, не балуйся.
Бреду назад, от боли пошатывает, да и на душе, прямо скажем, погано. Позор такой, хоть в другой город переезжай. Ребёночка мимо прошла — ты глазки закрой, у тети вавка. Сам не умеешь, пусть ангелок закроет. С главной аллеи видно, как светят фонари за оградой, гирлянды на ёлочке. Город снова ждёт, пусть раненную, но свою, родную. Всего метров двадцать и жизнь вернётся, шагаю легче, быстрее.
— Мария Алексеевна! Вы ножик забыли! — накатывает аллею эхом знакомый голос.
На местном рынке меня теперь полюбили, уступают в цене. Виданное ли дело — раз в неделю петуха беру. Несу в подарочек, режу голову — ученая стала, не выпендриваюсь. Петушок затихает, мы разговариваем час-другой. Кругом красота, Луна, а то и снег ляжет, глазам аж больно от серебра. Романтика такая, где там романам. Может, и ребёночек скоро будет, кто знает. Только согреться, я никак не могу согреться. Что поделать, кровообращение такое.
В белом облаке оборок, перебирая кружева тонкой рукой, источая смиренное счастье, сидит моя невеста. В подступающих сумерках свет иконописного лица маячит, как далёкая Луна. Сглатывая песню, застрявшую в горле, я подхожу. Нос вровень с моим пупком, цепкие лапки расстегивают ремень, пуговицу, ширинку. Мягкие губы, мокрый язык, кожаные ребра нёба. Лукавый зрачок подглядывает за мной из-под опущенных ресниц, я сжимаю затылок, путаюсь в светлых волосах, кричу. Хочется плакать. Наклоняюсь для поцелуя, замираю, гляжу в глаза. Теперь моя очередь. Ныряю под юбку, отодвигаю трусики, беру в рот член.
Пятнадцать лет назад это самое платье надевала другая белокурая девочка. Её руки я просил на коленях. Наша свадьба с тамадой и икрой стоила мне двух лет кредита. Наш брак стоил мне счастья. Но иногда, сквозь немытую сковородку, побежденную гравитацией грудь, моё горькое пьянство, её бесконечные, солью пропитанные, упреки, проступал ангел в белом. Когда она шумно сплевывала у загса, затянувшись сигаретой, топорщилось острое, золотистым пушком покрытое, плечо. Волочился, собирая осенние листья, подол. Пухлые губы серьезно шептали: «Люблю». Теперь шепчут другие. Бедра качаются, член доходит до язычка в горле, внутренности черепа заливает тёплая жидкость. Не глотаю, хватаю с пола бутыль ликёра, взбалтываю всё вместе во рту, тонкой струйкой передаю новой невесте в рот. Глотает, улыбается, до кошмара любимая, моя.
Ликёр в длинной бутылке стоял в серванте с самой свадьбы — всё выжидали какой-то повод, не знаю там, новоселье. На рождение дочки открыть забыли,
Обнаженная деваха с пухленькими сосками
Allie Haze во дворе измазывает свое тело маслом порно фото
Николь любит чёрные члены