Голышом у книжной полки
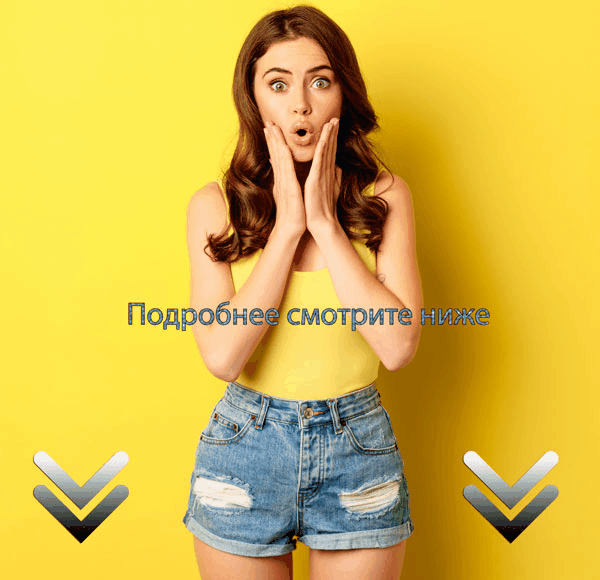
Голышом у книжной полки
More possibilities after signing in
Sign in to your account to upload your videos, follow playlists and leave comments
Beenden Sie die Bearbeitung aller Videos
Für bessere Geschwindigkeit und Stabilität bei der Verwendung von VK installieren Sie einen dieser Browser .
Голышом у книжной полки Войдите в аккаунт, чтобы загружать свои видео, подписываться на плейлисты и оставлять комментарии 197 просмотров четыре часа назад 197 просмотров четыре часа назад Завершить редактирование всех видео Ваш браузер устарел. Попробуйте браузер Atom , чтобы работа ВКонтакте была быстрой и стабильной. Подробнее Обложка книги Корнея Чуковского «Крокодил». Москва, 1941 год Детиздат ЦК ВЛКСМ Обложка книги Корнея Чуковского «Тараканище». Москва, 1961 год © Детгиз Корней Чуковский — о детских стихах Единственное доступное видео Корнея Чуковского — и именно в том образе, которым он скорее тяготился: доброго дедушки, читающего советским детям сказочки и задающего проверочные вопросы. 1960 год Обложка книги «Старшая Эдда». Москва, 1963 год © Издательство «Наука» Обложка книги «Младшая Эдда». Ленинград, 1970 год © Издательство «Наука» Как «Айвенго» учит искать компромисс и почему в книге столько фактических неточностей Кто такие обэриуты и за что их любят: их стихи, выходки и вклад в литературу Обложка книги Владимира Набокова «Весна в Фиальте». Анн-Арбор, 1978 год © Ardis Обложка книги Владимира Набокова «Возвращение Чорба». Анн-Арбор, 1976 год © Ardis Объясняем на примере пяти стихотворений Чем травила своих героев Агата Кристи? Выпуск нашего алкогольно-исторического подкаста, посвященный Агате Кристи и ее времени Как Лермонтов, написав роман в двух частях, обманул Николая I и других читателей «Двадцать тысяч лье под водой», Солженицын и Стругацкие «Моби Дик», «Дублинцы», Маркес и Гессе «Винни-Пух», «Унесенные ветром», Ремарк и Пелевин Сказки Пушкина, «Голова профессора Доуэля» и «Дао дэ цзин» Аввакум, Карамзин, Вяземский, Зощенко и Лидия Гинзбург «Остров сокровищ», «Жизнь двенадцати цезарей», «Лунин» Френсис Йейтс, Андрей Белый и «Граф Монте-Кристо» Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года Arzamas и Центр « Слово » на ВДНХ открывают библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, мы попросили музыкантов, ученых, поэтов и других читающих людей посоветовать свои любимые тексты. В новом выпуске рубрики — режиссер Павел Лунгин Мне кажется важным иметь эти стихи на книжной полке прежде всего потому, что они будят воображение, такое лукавое, непокорное, веселое воображение. «Крокодил» немедленно, с первых строк, предлагает ребенку парадоксальную ситуацию: крокодил идет по Невскому — это что значит? Непонятно совершенно. Он идет в галошах, в штанах или ползет голышом? У него, оказывается, есть дети, Тотоша и Кокоша, и они шалят — так же, как и ты. По-моему, главное — чтобы ребенок с самого начала учился воспринимать и принимать парадоксы. Это танец воображения, переодевание смыслов, карнавальный праздник, который будит и чувство юмора, и чувство поэзии. Но главное — тут есть во что играть, и это очень важно. Ты можешь играть в крокодиловых деток Тотошу с Кокошей, а можешь — в доблестного Ваню Васильчикова, который и сестру свою Лялечку спас от диких зверей, и дал этим самым зверям свободу, выпустив их всех из клеток зоосада. Это написано очень талантливо и иронично. А «Тараканище» рассказывает нам мудрую притчу о страхах. О том, как иногда мы боимся чего-то мелкого, ничтожного, чья ужасность и мощь — только в нашей голове. И опять это делается в форме какого-то залихватского веселья, и как же это смешно — бегство всех зверей от таракана! Мне в детстве представлялась африканская саванна: бегут огромные слоны, смелые львы, быстрые антилопы, а за ними где-то там, далеко, в мягких сапожках, с усами закрученными, может быть, даже в фуражке генералиссимуса идет маленький злобный таракан: Вот и стал Таракан победителем, И лесов и морей повелителем. Покорилися звери усатому (Чтоб ему провалиться, проклятому!). Сегодня я пребываю в некотором отчаянии от того, как безраздельно воцарилось клиповое сознание: ребенок сразу начинает мыслить картинками — ему не дают включить воображение в качестве реакции на слова, на текст. Современная видеокультура делает ужасную вещь: купирует способность создавать образы, обездвиживает саму мышцу воображения. Мозгу уже ничего не надо жевать, ему все подается протертым и готовым к употреблению, как пища в космонавтских тюбиках, знай выжимай и глотай: тут тебе и борщ, и клубника со сливками. А эти стихи надо жевать, надо спрашивать у мамы, что к чему и почему, надо себе что-то объяснять. В этом смысле Чуковский сегодня необходим. Это была книжка в мягком переплете с каким-то чудищем на обложке и удивительными историями внутри — мифами народа маори, коренных жителей Новой Зеландии. Я всегда любил мифы, начиная от самых простых, вот как эти или как сказки народов Чукотки. Странная смесь примитивных знаний и яркой образности давала ответы на какие-то большие детские вопросы. Оказывалось, что звезды светят потому, что кто-то кого-то полюбил, а рыбы молчат потому, что кто-то кого-то обманул. Простая форма, объясняющая тайны природы и человеческих отношений, необыкновенно притягательна, это ведь важнейший этап понимания устройства мира, который мы обязательно проходим в детстве. С одной стороны, эти книжки рассказывали реальные вещи о нравах и обычаях, о богах и героях, о духах и поверьях, с другой — там происходило невероятное. Там был шаманизм — и ты вдруг поражался тому, что дождь и жара могут подчиняться танцам вокруг костра. Помню, как в чукотских сказках меня поразило выражение «и пошла нога»: человек должен был пойти по делам, но что-то удержало его в чуме, и он послал по делам свою ногу. В легендах маори царили океанские демоны, хранители подземных царств и слуги леса в образе птиц, там водились оборотни, принимающие облик мужчин или женщин, — я хорошо запомнил, что отличать их надо было по золотистым волосам, голубым глазам и белой коже. На деревьях там жили полулюди, не знающие смерти, а в пещере обитало чудище с человечьим телом, покрытым рыбьей чешуей, и головой собаки. Из этих книжек вставал иной мир — загадочный, мистический, необъяснимый и в то же время вроде бы реально существующий. Мне кажется, это невероятно важно для ребенка: с одной стороны, чтобы уйти от рутинного восприятия жизни, с другой — наверное, чтобы полюбить людей. Чтобы понять, что и маори, и чукчи, и какие-нибудь кафры Кафры (от араб. kafir — «неверный») — название, данное европейскими колонизаторами темнокожим языческим племенам Южной Африки. — такие же, как мы, хоть и едят древесные грибы. Они так же валяют дурака и так же хотят знать ответы на вопросы, которые волнуют и нас. Неслучайно эти тоненькие книжечки издавала тогда Академия наук. Они, как правило, были очень скупо иллюстрированы, но это абсолютно компенсировалось невероятным, искрящимся богатством текста. В какой-то степени мне эта книга заменила классические «Легенды и мифы Древней Греции» Куна. Мифология Древней Греции невероятно интересна, но написана как-то суховато, что ли. На самом деле в греческих мифах, как и в греческом восприятии жизни, было черное и белое, темное и необъяснимое, светлое и ужасное: тысячерукие великаны, растущие из-под земли, женщины-змеи, рождающие богов, дети, оскоплявшие серпом своих отцов. А Кун все это стерилизовал, говоря только о солнечной стороне греческой мифологии. К ак-то очень торжественно и нравоучительно. Голосовкер же — философ, литературовед, серьезнейший исследователь и переводчик античной лирики — описал темную сторону жизни Олимпа и титанов — тех, кто был до греческих богов. У Куна боги немножко герои соцреализма: улыбающиеся, в начищенных доспехах, их может играть Брэд Питт. А Голосовкер ушел под землю, в хтонические слои, где жило темное подсознание нарождающегося мира. Для меня это было очень поэтично и дало совершенно иной взгляд на битву богов и титанов. Титаны были сильнее, а боги хитрее, и титаны всегда оказывались побеждены — обманом, ловкостью, наукой, прогрессом, я бы сказал. Правда и трагизм этой титанической жизни, мне кажется, важны для понимания как греческих мифов, так и всей европейской культуры. У моих родителей был старший друг, философ, крупный литературовед-шекспиролог Леонид Ефимович Пинский. В свое время он преподавал маме в ИФЛИ Институт философии, литературы и искусства. , потом был арестован, отсидел, и, когда вышел из лагеря, ему было негде жить. Какое-то время он жил у нас, и мама требовала, чтобы он на меня влиял в интеллектуальном смысле: то, что я лет в десять-одиннадцать прочел обе «Эдды», несомненно, его заслуга. Текст написан каким-то полугекзаметром, он весь как огромное стихотворение — не знаю, смог бы я его сейчас читать, но тогда это произвело на меня огромное впечатление. «Эдды» датируются началом XIII века, но это тоже своего рода легенды и мифы, рассказывающие о начале мира, его богах и героях. Именно в «Старшей Эдде» мне впервые четко представилась связь людей и окружающего мира, где человек ощущает себя звеном единой космической цепочки, где он сопричастен божественному бытию. Это вообще важное свойство скандинавской мифологии: там люди и неземные существа взаимодействуют на едином уровне и каждое явление имеет смысл в этом контексте. Друг-одноклассник приносил мне книжки Перельмана: из «Занимательной физики», как сейчас помню, можно было узнать, почему бульон остывает медленнее, чем вода. Так вот, это меня никогда не интересовало — в отличие от «Эдды» с ее романтическим, волшебным объяснением устройства мира. Оттуда потом выросли немецкая «Песнь о нибелунгах», все эти истории о гномах и о драконе, охраняющем сокровища. Неслучайно сам образ викингов, их философия и отношения стали предметом интереса массовой культуры, темой фильмов и сериалов. И Толкин, и «Игра престолов» — все это берет начало там. Я в детстве был дико активным, дрался, устраивал битвы на палках — да такие, что меня выгоняли из школы, — так что все эти описания рыцарских турниров меня страшно волновали. Думаю, через такой этап должен пройти каждый мальчишка, прежде чем в его жизни появится Мопассан. Сегодня мы бы сказали, конечно, что Вальтер Скотт создавал сериалы, как, кстати, и Дюма с его мушкетерами. Эти авторы открыли законы сериального жанра, когда еще не было кино: они описывали непрерывную цепь приключений, интриг, событий, закладывая в каждой главе крючок к тому, чтобы ты, дрожа от нетерпения, переворачивал страницу. Разве это не похоже на то, как сегодня ждут выхода очередной серии? Интересно, что во времена Пушкина Вальтер Скотт считался серьезным писателем, говорящим значительные вещи о долге, чести, любви, но в моей юности это, конечно, был исключительно автор приключений. Хотя справедливости ради нужно сказать, что безусловные ценности — те же чувство долга, и преданность, и справедливость, и благородство, и смелость — его приключенческие романы отлично продвигали и закрепляли в подростковом сознании. Черный Рыцарь оказывается королем Ричардом Львиное Сердце, нищий странник — наследником несметных богатств, все друг друга спасают, и даже враги благородны по-своему . Леди Ровена прекрасна, еврейка Ревекка не менее прекрасна, Айвенго счастлив с Ровеной, Ревекка спасена и свободна — в конце как-то все устраивается ко всеобщему благолепию. Хотя, помню, меня поразила ироничная фраза о том, что, похоже, Айвенго частенько вспоминал красоту и благородство Ревекки и неизвестно, мол, понравилось бы это Ровене, сумей она прочитать мысли своего благородного рыцаря. Вальтер Скотт — почти физиологический этап развития мальчика, закрепление гормонального, но с размахом, с благородством, с большим сюжетом. Ты ведь должен на пути от ребенка до взрослого внутренне пройти всю культуру человечества. Ну, не должен, но так получается — а у кого не получилось, тому не повезло. Так же как ребенок в животе матери, согласно закону зародышевого сходства, проходит этапы развития потомства животного мира: лапки ящерицы, крылья и ноги птиц развиваются из тех же зачатков, что руки и ноги человека. Рыцарские романы, видимо, один из таких культурных зачатков, без которых нельзя усвоить понятие чести, нельзя понять, что надо быть храбрым, помогать слабым, защищать женщин, что хорошо бы, в конце концов, уметь скакать на лошади. Этап, на котором можно и должно усвоить эти понятия, к сожалению, быстро проходит, но без него у тебя может не оказаться ни рук, ни ног, так что книги такого рода — опорно-двигательный аппарат на всю жизнь. У нас дома было, по-моему , даже два собрания сочинений Мопассана: одно серое, а другое зеленоватое, совсем старое. Это, конечно, совершенно мальчиковое чтение, мой эротический юношеский период, когда именно Мопассан начал стирать, затмевать и греческие мифы, и «Эдду» — как «Старшую», так и «Младшую». Сегодня мне сложно сказать, почему именно «Окно», крошечный рассказ, так врезалось мне в память — точнее, даже не сам рассказ, а запах вербены, который появляется на его страницах в самом конце. Сюжет прост и забавен: некий господин влюбляется в очаровательную вдову и решает сделать ей предложение. Дама, лишенная предрассудков, подает встречную идею: пожить какое-то время рядом, общаясь платонически, но так, чтобы получше узнать друг друга. Господин радостно идет на это, попутно соблазняет хорошенькую служанку вдовы и, компенсируя таким образом высокие отношения, терпеливо ждет согласия на брак. Однажды, застав наперсницу своих постельных утех свесившейся из окна, он задирает ей юбки и целует нежную, пахнущую вербеной ягодицу, которая — о ужас! — оказывается ягодицей не служанки, но ее хозяйки. На этом, собственно, история кончается — охальника гонят прочь из дома. Этот рассказ — простой, короткий, казалось бы, безыскусный — наполнен таким пронизывающим эротизмом, какого не было ни у кого из других прекрасных французских писателей XIX века. Мопассан — невероятный мастер новеллы, способный вызвать у читателя, особенно юного, настоящее томление плоти. Когда я прочел его биографию, она меня ужасно опечалила: он ведь закончил жизнь, будучи чуть за сорок, в сумасшедшем доме, совершенно потерянным. Это особенно грустно, потому что мне он казался на удивление здравомыслящим автором — рассказывая истории о событиях и поступках, не углубляясь явным образом в психологизм, он в то же время рисовал психологически точные портреты и ситуации. Чудесная книжка, совершенно не имеющая никакого отношения к литературе. Если продолжать кинопараллели, то это такой быстрый сериал, но такое чтение тоже нужно, потому что скучно всю жизнь есть только здоровую пищу — иногда можно и семечки погрызть. Буссенара нужно читать еще и потому, что он блестяще реализовал идею противопоставить злу энергию юности: «Капитан Сорви-голова» — это, конечно, аналог наших «Неуловимых мстителей», история про то, как команда мальчишек воюет в Африке с ужасными англичанами на стороне благородных буров. Когда я повзрослел, выяснилось, что все неправда: и буры были не такие уж благородные (они были расисты, и у них был апартеид), и англичане были не такие уж плохие (они пытались хоть какую-то культуру туда принести). Но в детстве все затмевало восхищение тем, как четырнадцатилетний мальчик из ружья за два километра убивал англичанина, голова которого разбивалась, как орех. А как ловко он переодевается девушкой-служанкой и нанимается в услужение к матери своего врага! А как смело команда молокососов мчится по важному заданию на велосипедах, сметая на пути отряды английских улан! А как хитро под видом пастушек, приведших стадо на водопой, они закладывают куда-то динамит — восторг, да и только! Если говорить мифологически, это была победа Мальчика-с-пальчика над великаном. «Капитан Сорви-голова» — не литература, а чтиво, но чтиво абсолютно захватывающее и опять же урок добра и благородства, а еще — урок интернационализма. Тогда же все мальчишки мечтали помогать бурам и бежали из ухоженных домов, бежали какие-то дворянские дети из России и Франции, обманом пробирались на корабли, их ловили и силком возвращали домой, а кто-то , может, и становился вот таким неуловимым молокососом-разведчиком. Это книга о том, что слабым нужно помогать и ты не бессилен, даже если ты Мальчик-с-пальчик. Заболоцкий весь насквозь гениальный. Взять хотя бы мое любимое стихотворение «Цирк»: Два тоненькие мужика Стоят, сгибаясь, у шеста. Один, ладони поднимая, На воздух медленно ползет, То красный шарик выпускает, То вниз, нарядный, упадет И товарищу на плечи Тонкой ножкою встает. На последний страшный номер Вышла женщина-змея. Она усердно ползала в соломе, Ноги в кольца завия. Проползав несколько минут, Она совсем лишилась тела. Кругом служители бегут: — Где? Где? Красотка улетела! У него есть потрясающий стих «Ивановы» — о том, как бесконечная армия Ивановых идет на работу «в своих штанах и башмаках», о торжестве мещанства, о непобедимости горок с посудой и трехэтажных самоваров. Это невероятно точная картина города и общества, навязавшего человеку свои стандарты, свои представления о должном. Стихотворение кончается словами: «…Но будь к оружию готов: / Целует девку — Иванов». Мне кажется, это открытие нового поэтического мира, которое совершил Заболоцкий, старший друг обэриутов. Интересно, что я со своими вполне реалистическими фильмами люблю как раз этот абсурд. Если бы я был рокером, пел бы только песни на стихи Заболоцкого, потому что они полны одновременно и бунта, и тайного, волшебного взгляда на жизнь. Это поэзия мертвых рыбьих тел на прилавке магазина, который являет собой невероятную красоту: Тут тело розовой севрюги, Прекраснейшей из всех севрюг, Висело, вытянувши руки, Хвостом прицеплено на крюк. Это мир, где живет одинокий кот-философ, который кончает жизнь самоубийством: Отшельник лестницы печальной, Монах помойного ведра, Он мир любви первоначальной Напрасно ищет до утра. Это история про природу, которая не любит насилующего ее человека, и история человека, который мучает эту природу. Поэзия Заболоцкого, мне кажется, с огромным опережением предварила то, что потом в более окультуренном виде проявилось в Европе с творчеством Эжена Ионеско и Сэмюэла Беккета. Чем-то эти стихи похожи и на чукотские легенды про отдельно ходящую ногу, и на скандинавские мифы, воспевающие таким вот странным образом загадочное величие мира. Стихи Заболоцкого — очень русская поэзия. При этом, мне кажется, главное, что в ней завораживает, — создание новой мифологии, новой логики, новых отношений между людьми и вещами, между животными и людьми. Из этого вырастает то, что в картинах Марка Шагала заставляет летать и корову, и кровать, и влюбленных: удивительная свобода в обращении с пространством, у Шагала — с графическим, у Заболоцкого — с вербальным. Полное отсутствие преданности какому-то канону. В то же время он описывает жестко структурированный мир, в котором, как в любом мифе, всегда борются две силы: сила организующая, созидающая, светлая и сила темная, разрушительная. Именно поэтому стихи Заболоцкого наполнены таким ужасом перед мещанами Ивановыми, перед грубостью цирка, перед брутальностью рыбной лавки: «…И среди них, как желтый клык, / Сиял на блюде царь-балык». Но тебе предлагается не идти к Ивановым, а выбирать какое-то другое пространство — быть как волк из поэмы «Безумный волк», который вывернул себе шею с помощью чудовищного станка, чтобы увидеть звезды. Заболоцкого арестовали в 38-м. Не расстреляли, но сломали: из лагеря он вернулся тихим и дальше писал красивые, очень реалистические, очень обычные стихи. Величайший гений мирового уровня был просто загублен. И он, и Даниил Хармс, и Николай Олейников — люди, выворачивающие привычный русский мир наизнанку, дающие ему совершенно другое звучание, другой смысл и о чем-то предупреждающие. Сами они не понимали того, что предчувствовали, но этим ощущением катастрофы, которое сквозит в их якобы шутливых стихах, как бы приоткрывались тайны наступающего XX века, века коммунизма, фашизма, ГУЛАГа, массовых истреблений. Они каким-то неведомым обра
3 голые бабы фото
Интимная прическа безупречной девушки
Секси женщины за 30 фото