Голый Пионер
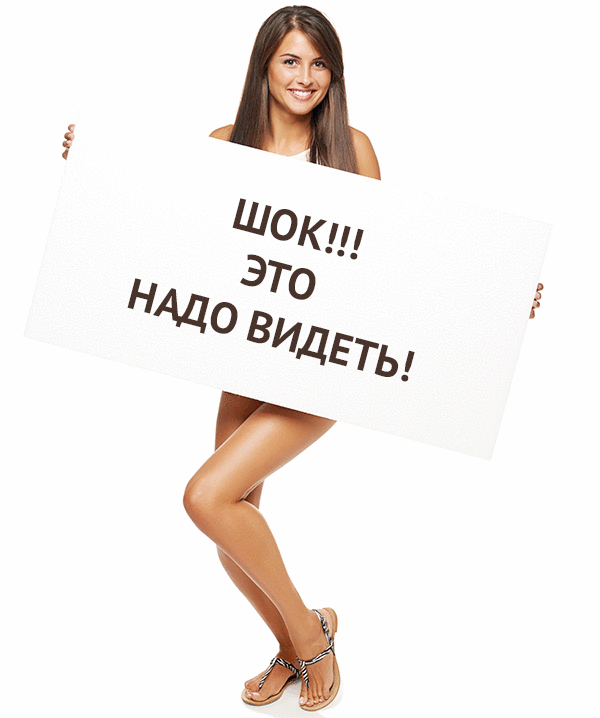
💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
«Чапаев» родился из любви к отечественному кино. Другого в моем детстве, строго говоря, не было. Были, конечно, французские комедии, итальянские мелодрамы и американские фильмы про ужасы капиталистического мира. Редкие шедевры не могли утолить жгучий голод по прекрасному. Феллини, Висконти и Бергмана мы изучали по статьям великих советских киноведов.
Зато Марк Бернес, Михаил Жаров, Алексей Баталов и Татьяна Самойлова были всегда рядом — в телевизоре, после программы «Время». Фильмы Василия Шукшина, Ильи Авербаха и Глеба Панфилова шли в кинотеатрах, а «Зеркало» или «20 дней без войны» можно было поймать в окраинном Доме культуры, один сеанс в неделю.
Если отставить лирику, «Чапаев» вырос из семитомной энциклопедии «Новейшая история отечественного кино», созданной журналом «Сеанс» на рубеже девяностых и нулевых. В основу этого издания был положен структурный принцип «кино и контекст». Он же сохранен и в новой инкарнации — проекте «Чапаев». 20 лет назад такая структура казалась новаторством, сегодня — это насущная необходимость, так как культурные и исторические контексты ушедшей эпохи сегодня с трудом считываются зрителем.
«Чапаев» — не только о кино, но о Советском Союзе, дореволюционной и современной России. Это образовательный, энциклопедический, научно-исследовательский проект. До сих пор в истории нашего кино огромное количество белых пятен и неизученных тем. Эйзенштейн, Вертов, Довженко, Ромм, Барнет и Тарковский исследованы и описаны в многочисленных статьях и монографиях, киноавангард 1920-х и «оттепель» изучены со всех сторон, но огромная часть материка под названием Отечественное кино пока terra incognita. Поэтому для нас так важен спецпроект «Свидетели, участники и потомки», для которого мы записываем живых участников кинопроцесса, а также детей и внуков советских кинематографистов. По той же причине для нас так важна помощь главных партнеров: Госфильмофонда России, РГАКФД (Красногорский архив), РГАЛИ, ВГИК (Кабинет отечественного кино), Музея кино, музея «Мосфильма» и музея «Ленфильма».
Охватить весь этот материк сложно даже специалистам. Мы пытаемся идти разными тропами, привлекать к процессу людей из разных областей, найти баланс между доступностью и основательностью. Среди авторов «Чапаева» не только опытные и профессиональные киноведы, но и молодые люди, со своей оптикой и со своим восприятием. Но все новое покоится на достижениях прошлого. Поэтому так важно для нас было собрать в энциклопедической части проекта статьи и материалы, написанные лучшими авторами прошлых поколений: Майи Туровской, Инны Соловьевой, Веры Шитовой, Неи Зоркой, Юрия Ханютина, Наума Клеймана и многих других. Познакомить читателя с уникальными документами и материалами из личных архивов.
Искренняя признательность Министерству культуры и Фонду кино за возможность запустить проект. Особая благодарность друзьям, поддержавшим «Чапаева»: Константину Эрнсту, Сергею Сельянову, Александру Голутве, Сергею Серезлееву, Виктории Шамликашвили, Федору Бондарчуку, Николаю Бородачеву, Татьяне Горяевой, Наталье Калантаровой, Ларисе Солоницыной, Владимиру Малышеву, Карену Шахназарову, Эдуарду Пичугину, Алевтине Чинаровой, Елене Лапиной, Ольге Любимовой, Анне Михалковой, Ольге Поликарповой и фонду «Ступени».
Спасибо Игорю Гуровичу за идею логотипа, Артему Васильеву и Мите Борисову за дружескую поддержку, Евгению Марголиту, Олегу Ковалову, Анатолию Загулину, Наталье Чертовой, Петру Багрову, Георгию Бородину за неоценимые консультации и экспертизу.
Выберите год или временной промежуток, чтобы посмотреть все материалы этого периода
Спектакль «Господа Головлевы» вползает на сцену медленно, крадется долго. Так начинался «Пластилин» в Центре А.Казанцева и М. Рощина, так начинались «Мещане» в МХТ. Трилогию семейного распада Кирилл Серебренников выстраивает от настоящего к прошлому, в пространстве двух веков русской истории. Сюжет будто выпрастывается из небытия. Прежде, чем зазвучат слова, являются звуки: шепоты и шорохи, шарканье и мычанье. Нечленораздельно, но настойчиво просыпается жизнь. Готовится обрести «порядок слов» и смысл… Но тщетно. Причудливо извиваются в треугольных окошках задника чьи-то руки, потом из полумрака выступают люди-тени — сначала как неясное воспоминание о головлевских умертвиях и увечиях, потом как «коллекция слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднолюбцев и вообще неудачников». (Салтыков-Щедрин). Малая сцена МХТ по заднику и кулисам обнесена забором, криво крашеным известью. Вдоль забора — дощатые клетушки, напоминающие дачные сортиры. Девки мерно вяжут в узлы грязное белье. Три тюка над сценой напоминают тела повешенных. Весь спектакль белые тюки перетаскивают и разбрасывают. Вываливаясь из дверей, они изображают сугробы, наметенные с улицы. А в финале образуют безбрежную заснеженную равнину (сценограф Николай Симонов), в которой зарывает себя, хоронит заживо последний представитель головлевского рода, Порфирий Владимирович, еще в детстве нареченный Иудушкой.
Первое впечатление довольно сильное и очень пахучее: со сцены будто и вправду несет кислыми щами, сивухой и потом. Однако эта «русская сага» идет три с половиной часа, и режиссерского импрессионизма, актерской экспрессии, впечатляющих первые 15 минут, на весь спектакль не хватает. «Эстетика безобразного» — штука выразительная. По мере развития фабулы (точнее, визуального пересказа романа) «запах» будет крепчать, а «картинка» — украшаться новыми трюками. В итоге спектакль превратится в серию мрачных клипов-вариаций на тему «история распада одной семьи».
Самый эффектный трюк — обряжение покойника. Каждая новая жертва Иудушки своими ногами отправляется на прозекторский стол, где доктор зашивает на ней сюртук через край суровыми белыми нитками. К концу спектакля умертвия заполнят все кабинки декорации и будут являться Иудушке всякий раз, когда его вроде бы тревожит совесть.
Самый настырный идеологический «жест» спектакля — то, как вкривь и вкось, наполовину и наперекосяк крестятся персонажи. Тут и дурак поймет, что герои, которые вечно говорят о Боге, вере и Евангелии, но осеняют себя не крестным, а каким-то дьявольским знамением, обречены на порчу и вымирание. Выразительная деталь (впрочем, так и не развитая) — костюмы трех братьев Головлевых (режиссер выступил в спектакле и как художник по костюмам). В сценах-воспоминаниях о юных Порфирии, Степане и Павле, три здоровенных лба надевают тесные байковые рубашки в цветочек и колготки в рубчик с вытянутыми коленями. Этот жутковатый флэшбэк «Головлево. Детство» отсылает, конечно, не к историческому времени (роман вышел в 80-е годы XIX века), а к нашему недавнему советскому прошлому. Именно так, по-сиротски и не по-мужски, одевали мальчиков во многих советских семьях.
Эти «мальчики без штанов» в спектакле Серебренникова — знак не мужского воспитания властной матери и не мужского характера выросших ее сыновей. Возможно, через этот «советский штамп» режиссеру и удалось бы перекликнуть разные времена российской империи и, проследив вечную цепочку зла, поставить зеркало перед природой. Но если бы не Блок в программке («Да, и такой, моя Россия // Ты всех краев дороже мне»), если бы не телеинтервью Олега табакова (и такая Россия есть, хотя такая и не всем понравится), мне бы не догадаться, сколько пафоса было вложено в эту постановку.
Как ни странно, Серебренникова, озабоченного «социальным жестом», постоянно призывающего искусство активно влиять на жизнь, глубинные социальные мотивы Салтыкова-Щедрина мало взволновали. Сколько бы ни объяснял режиссер, что хотел предъявить зрителю социальную драму и заставить его задуматься над собственной жизнью (надо понимать, схожей с головлевской), история вышла у него не страшная, не поучительная и не типичная. История некой выморочной семьи упырей и уродов, неизвестно для чего живущих и родства не помнящих. Частный случай, никак не метафора расейского извечного пафоса. Скорее триллер, чем социальный памфлет.
Жаль, что после спектакля никто не перечтет роман. И, уж точно, не соберется читать его впервые. С чего бы? Наш зритель привык доверять театру и любимым актерам и уверен, что роман таков, каков он в театре. Тем боле, где-то когда-то он слышал, что «Господа Головлевы» — один из самых жутких и страшных романов XIX века. Поэтому зрителю так и не узнать, что беспощадная книга Салтыкова-Щедрина еще и невероятно психологична, умнейшее исследование русской действительности и русского характера, не уступающее по глубине Достоевскому, признанному знатоку душевных бездн. Страницы романа вскипают не только желчью и обличением «жестоких крепостников, скрывающих бездушие и черствость под маской лжи и лицемерия» (так писали о «Головлевых» прежде). Роман полон сострадания к маленькому человеку, пусть гадкому, но живому. Писателя не столько занимало живописание морального уродства и духовного оскудения «и такой России», сколько извечное в старой культуре желание понять его причины. Отчего это русский человек, которому в высшей степени свойствен возвышенный образ мысли, в жизни хватает так невысоко. В свое время Ленин любил пользоваться «бессмертным образом» Иудушки в спорах с врагами революции. Смешно, но и Серебренников, режиссер иного, антисоветского времени, от ленинского взгляда не избавился, приступив к роману с той же вульгарно-социологической меркой и большевистской прямотой. Если Салтыков-Щедрин силился понять, то Серебренников ограничился констатацией факта. Если для Салтыкова-Щедрина Иудушка — результат долгого «естественного отбора», продукт эпохи и семьи, живущих в многолетнем ханжестве (слова высоконравственны, поступки — аморальны), то для Серебренникова он — отклонение от нормы, обыкновенный негодяй, чьи поступки легко объяснимы им самим «все мы люди, все человеки, все сладенького да хорошенького хотим». Но если Щедрина отличает «бесстрашие анализа» (Наталья Крымова), то Серебренниковым движет технологическое любопытство дизайнера: как придать старине товарный вид, как упаковать сюжет так, чтобы зритель скушал и не поморщился.
Инсценировка романа сделана режиссером достаточно аккуратно. Все фабульные линии и основные герои сохранены. Сюжет, правда, выровнен хронологически, а лирические отступления опущены, как и истории отдельных персонажей. Писатель каждому из умертвий даёт право на «чувствование», режиссер сохраняет лишь схему преступления. Писатель каждого из этих убогих и несчастных (даже дворовых девок Улиту и Евпраксею) заставляет читателя, если не полюбить, то узнать. Режиссера мало волнуют люди и судьбы, ему важнее общая картина распада. Конечно, потери литературы в театре всегда неизбежны. Но, как известно проза сохраняет в театре объем не только благодаря литературному тексту. И тут наконец придётся назвать главную проблему, которая была не слишком заметна в бытовой драме Сигарёва, но уже нарушила логику образов горьковских «Мещан», а в «Господах Головлёвых» стала явной: Кирилл Серебренников не умеет работать с актёрами.
Роман Салтыкова-Щедрина, если к нему относится всерьёз (а обстоятельства этой работы побуждают именно так трактовать режиссерский замысел — как выношенный и глубоко личный), требует тщательного логического анализа, обнаружения причинно-следственных связей отдельных характеров и сюжета в целом. Без тончайшего психологизма, непрерывного развития ролей, актёрской изобретательности, способной текстовые потери сохранить и в «зонах молчания», и в ролях второго плана, играть эту прозу бессмысленно. Даже если трактовать роман утилитарно, как сделала в одном интервью актриса Евгения Добровольская (детей надо делать в любви, тогда не вырастут уродами), и тут хотелось бы понять логику. Отчего Арина Петровна Головлева не любила мужа? Отчего «выбросила» с ним на свет три таких разных «куска»? («Выбросить кусок» — ее любимое выражение.) Отчего «уроды получились такими разными? Один — пьяница, второй — тихоня (оба, кстати, в романе еще с зачатками совести), а третий — законченный демагог и игрун, точь-в-точь, как «милый дружок маменька». «Зритель же должен как-то идентифицировать себя с персонажами, считает сам режиссер. — Иначе человек смотрит на сцену как на абстракцию и уходит. Многим этого достаточно, но тогда театр обречен быть маргинальным старомодным институтом». А зачем позвали зрителей на этих «Господ Головлевых»? Чтобы прочесть им проповедь? Так проповедь без исповеди в театре никого не потрясает. Чтоб отвратились зрители от показанных безобразий и назавтра возлюбили ближнего своего? Так это не их безобразия, а щедринские, старого лохматого века. Вот ведь Арина Петровна все время об этом — не ври, не виляй хвостом, люби дом, служи семье. Хорошо говорит.
Впрочем, такие «детские вопросы» режиссера вряд ли волновали. В тех условиях игры, которые он задал актерам, у каждого — одна функция. Сергей Сосновский (Головлев-отец) изображает папеньку-идиота, распевающего похабные песенки (мог ли Серебренников пропустить упоминание о Баркове в тексте романа?). Эдуард Чекмазов изображает вечно пьяного в дым Степку-балбеса, Алексей Кравченко то ковыряет в носу, то наматывает на кулак колготки, то многозначительно морщит брови, изображая тугодума Павла. Юлия Чебакова, раскорячившись и говоря на распев басом, изображает похотливую Евпраксеюшку, сначала покорную, потом бунтующую. Мария Зорина со своей Улитой-наушницей просто переезжает в Головлево из «Мещан», Сергей Медведев (Володенька) — из «Терроризма», а Юрий Чурсин (Петенька) снова играет Буланова, которому, правда, не повезло встретить свою Гурмыжскую. В итоге по сцене бродят персонажи-схемы, экзальтированно выкрикивающие проклятия Иудушке, чтобы обозначить — для зрителя — виноватого в их страданиях.
Не решив главного, режиссер увлекается материализацией деталей, зацепивших его воображение. В романе об Иудушке говорят, что он смотрит «словно петлю закидывает». В спектакле над сценой повисает петля, которую многозначительно разглядывает Степка (не исключено, что кто-то из зрителей решит, будто Балбес давился, а не умер от белой горячки). В романе старый и обессилевший Иудушка масляно глядит на племянницу, и та ежится под этими взглядами. Режиссер раскладывает пышнотелую Анниньку на столе и заставляет Иудушку тискать ей груди. Намек на инцест столько прозрачен, что лезешь в текст проверять: а вдруг и у Щедрина так? Письмо двух сирот, Анниньки и Любиньки, бабушке написано столь кокетливо и наивно, что грех было не проиллюстрировать его сценкой-пантомимой двух театральных статисток в окружении пылких поклонников. Сценка комичная, фривольная, зрителю нравится, но выпадает из стиля спектакля и тормозит действие. История же падения двух девушек, недолго хранивших свое «сокровище», выписанная Щедриным не менее драматично, чем, скажем, более популярная в народе «Яма» Куприна, в спектакле и вовсе опущена, отчего желание Любиньки отравиться возникает как гром с ясного неба. Видимо, для усиления (и прояснения) пафоса режиссер заставляет Анниньку не тихо угасать и мрачно спиваться с «добрым дяденькой», а обличать и стыдить Иудушку, чтобы другим неповадно было. По существу в спектакле лишь две полноценные роли, которые можно было бы выстроить и сыграть, — Арина Петровна Головлева и сын её, Порфирий. Роли отданы Алле Покровской и Евгению Миронову, и право их на эти роли трудно оспорить. Они талантливые люди, а посему играют, видимо, то, что велит им режиссер, то есть цепь состояний распада, сохраняя логику и держа мысль в пределах одной сцены.
Щедринская маменька тут корень всему. Ее судьба прослеживается в романе на протяжении чуть ли не двадцати лет, и всякий раз писатель обосновывает, как и почему эта крепкая, моложавая женщина превратилась в старуху, полновластная хозяйка пошла в приживалки, а в финале осознала, что «убивалась над призраком», вырастила чудовище. Покровская играет без этой сверхзадачи: голосом — монотонно (просто властно), характер — кусками. В первой сцене перед нами — этакая Васса Железнова. В сцене с внуками — бабушка из гончаровского «Обрыва». Сцена заканчивается сухим и злыми криком Арины Петровны, которая требует у жадного сына «свой» тарантас. А уже в следующей картине — чаепития с Иудушкой и Евпраксеей (прошло десять лет, но зритель об этом вряд ли догадается) — перед нами шамкающая старуха, похожая на одну из многочисленных юродивых Островского. Нежелание Арины Петровны ссудить деньги проигравшемуся Петеньке выглядит столь же бессердечным, как и минуту спустя Иудушкин отказ, и не окрашено никаким чувством, кроме, может быть, страха. Ее предсмертное «Прокляну!» в спектакле воспринимается только как мстительность вредной старухи. Тогда как в романе (и это крайне важно Щедрину) вместе с «концом, полным тоски и безнадежного одиночества» пришло к Арине Петровне сознание «чего-то горького, полного безнадежности и, вместе с тем, бессильно строптивого».
Евгений Миронов — лучший актер своего поколения — вправе претендовать на первые роли. Вчера — князь Мышкин, идеальный герой русской классической литературы. Сегодня — Иудушка, её же идеальное ничтожество. Оба — с типично русскими корнями, и, если следовать логике и Достоевского, и Щедрина, вполне сопрягаемы и сопоставимы. Однако и в случае с фильмом Владимира Бортко (в меньшей степени), и в случае со спектаклем Серебренникова (в огромной степени) режиссура оказалась не на уровне актерских возможностей. Тем не менее Порфирий Головлев в исполнении Миронова — единственный персонаж, за движением жизни которого наблюдать интересно.
Внешний рисунок явно продуман. «Изумительная чуткость» в его Иудушке сочетается с «лукавой ловкостью», «горькая улыбка» — с умильностью, будто сын и вправду собирается «у маменьки брюшко пощекотать». Точно найдена манера выпевать слова, баюкать ими, ходить, гордо ссутулившись; ссутулившись — ибо тяготы хозяйственные непомерны, гордо — ибо сознание своих достижений непомерно тоже. И какая фантастически искренняя фальшь во всем! И как страшно пальчиком грозит и тычет в окружающих!
Только через Миронова здесь, кстати, и ощущается движение, истечение времени, осознание одной человеческой жизни как вспышки на фоне вечности. Вот его Иудушка — мальчик-ябедник, вот вьюноша, пишущий умильные письма маменьке, вот рачительный хозяин и деликатный брат на похоронах Павла (шапка деловито зажата в кулаке, тихие, но твердые распоряжения по дому). Вот богатый и почти успокоившийся на достигнутом барин в халате, разглагольствующий, как некогда маменька, о нравственности. Дальше в обратном порядке барин стареющий (кажется, даже волосы седеют и редеют на глазах), барин нищающий и всеми покинутый, этакий Плюшкин в кругузом плащике. Замерзающий посреди бескрайней равнины, в финале он даже вызывает жалость. Но зритель, никак не побуждаемый режиссером к анализу подобных «чувствований» в течение трех с половиной часов, не знает, что с этой жалостью делать. Заявленная Мироновым роль в этой структуре так и остается интересным эскизом.
Странно и последнее: режиссер, столь социально активный на словах, на деле упускает такую счастливую возможность финальной точки, какую подсказывает Щедрин. В последних строках романа автор выводит на сцену еще одно у
Голая Наташа Бочкарева
Эро Картинки Азиаток
Висят Сиськи Не Проблема
Шишка Влагалище
Порно Фотки Мадонны
Голый пионер - Чапаев
Голый пионер - YouTube
"Голый пионер". (Окончание): terra_ira — LiveJournal
Голый Артек | Перпендикулярный мир
Голый пионер Вова Путин
Голая пионерка: colonelcassad — LiveJournal
Пионер Векторная графика - Скачать бесплатные изображени…
Кинотеатр Пионер » Голый завтрак
Голый Пионер













































































