Фото задастой девки с сигаретой
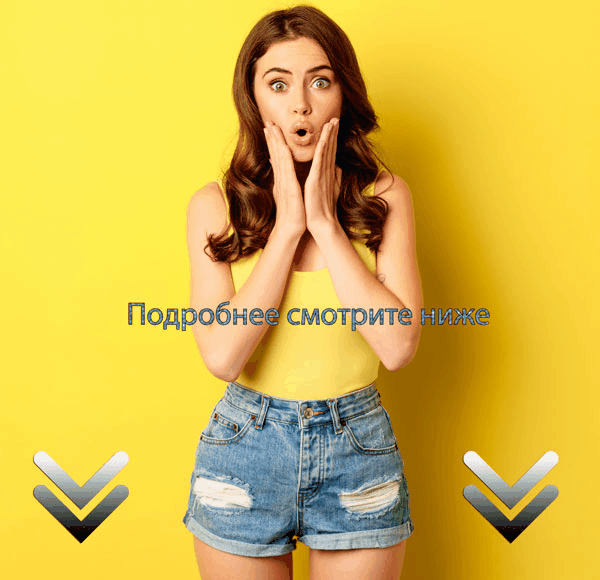
⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻
Фото задастой девки с сигаретой
Wenn Ergebnisse zur automatischen Vervollständigung angezeigt werden, verwenden die Pfeile nach oben und unten, um sie dir anzusehen und sie auszuwählen. Nutzer von Geräten mit Touchscreen können die Ergebnisse durch Antippen oder mit Streichgesten durchsuchen.
Melde dich an, um Pinterest optimal zu nutzen.
Цивилизация, провозгласившая человеческую жизнь наивысшей ценностью,
обречена. Ибо цивилизация - это и есть оправдание костра, дуэли, священной
войны.
Вот что было на самом деле: Бог не принял у Каина жертвы, и тогда - в
ответ на это знамение! - он принес в жертву самое дорогое, обливаясь слезами,
как Авраам, с той же безоговорочной верой в неизбежное.
Морда твоя, Людася, бесстыжая! В доме уймища книг.
Почему тебя тянет читать именно эти каракули?
- Потому, Иго-го, что ты - гений!!!
Юность - еще одна родовая схватка, когда ты снова летишь головой вперед
в неведомый мир. Но теперь ты не только орущий младенец, ты еще и разорвавшаяся
роженица.
Юность - изгнание из рая (детства).
Или все-таки девства?
Было жарко, он бродил по квартире голым. В кухню - глотнуть холодной водки,
в ванную - посмотреть, налилась ли вода, и обратно к дивану, на который
он вывалил свои записные книжки. Читал первое, что попадалось. Называл
себя мудаком, мудозвоном, флейтой позвоночника - флейтой чужого позвоночника!
Вдруг развеселившись, подумал, что это стоило бы записать... на форзаце
хоть этой, хоть той - черт возьми, должно быть, любой из книжек! И, открыв
секретер, долго искал в нем ручку. Попадались одни цветные карандаши,
которыми хрен что-нибудь вычеркнешь. Потому что ведь он собирался вычеркивать,
безусловно, вычеркивать, но отнюдь не сейчас, а потом - после ванны, когда
прояснится и установится... Что? Да все! То же окно - установится рамой
на лес, а не будет, как видоискатель, гоняться за птицами в небе.
А казалось, съезжая от Людмилы и Кирки, что теперь - у Натуши, у хорошей,
славной, доброй Натуши, ничего-то вычеркивать и не придется!.. И, поймав
холодильник за ручку, стал искать в нем еды. Но продукты вдруг оказались
словами, четыре строки назывных предложений, - а от слов-то его как раз
и тошнило, от потуги лепить их к бумаге, делать это ни для кого и ни для
чего, только что сделав, стесняться написанного - так стесняться, что
даже не ставить дат, - очевидно, уже и тогда помышляя о склоне лет: как
бы это на старости не показаться себе глупее, чем положено быть в целых
...дцать и тем более в ...дцать с небольшим.
- Не подцать ли ... ха, ха... не пойти ли подссать на все это? - И закрыв
холодильник, обнял его, проникаясь прохладой.
Было время - и он его клял! - а вымарывать приходилось только "бесстыжую
Людасину морду". Потому что Кирилл подрастал, а Людася, не делая
уже из своих перлюстраций тайны, могла вдруг захлопнуть учебник на коленях
у Киры: "Дружок, послушай-ка лучше из твоего отца!" Могла объявить
телефонной подруге: "Как написал мой муж... - и любую его банальность
опечатать надрывным речитативом. - Жена из меня хреновая, а вдовой буду
суперской! Все издам - до последнего слова! Пусть меня Бог приберет хоть
завтра, если вру!" Он уже не кричал ей о праве на тайну... Захватанные
ее голосом и глазами все его тайны раскрошились в труху.
Как ни странно, он был этому рад. И замкнулся - заткнулся. Людася шарила
по блокнотам, словно пейзанка по насесту, вместо теплых яиц утыкаясь рукой
в застывший помет... Это длилось, должно быть, с полгода. Он тем временем
стал завлабом - самым молодым в институте, пробил под заветную тему договор,
домой возвращался последним автобусом и, чтобы в нем не заснуть, сам с
собой что-то чиркал в уме, где-то с месяц - в уме, а потом на работе,
запершись ото всех... Потребность тулиться к бумаге ладонью, локтем, долго
тереться о ее желтоватую белизну ручкой вплоть до полного и ликующего
словоизвержения оказалась из самых постыдных и самых насущных. Но не вечности
же он хотел? Разве? Нет? Но чего же тогда? Ведь и женщину мы хотим и поспешно
отягощаем, запершись ото всех, - вечностью... Интересно, это где-нибудь
у него уже было? Впрочем, черт, что за пошлость! Сжечь, не черкая, не
читая, - скопом. Потому что Кирилл - гаденыш, вчера рылся в ящиках, потом
в секретере - и именно там, где книжки! - был застигнут Наташей, которой
с ухмылочкой и объявил, что искал "штуку баксов, а еще лучше три"…
Совершенно уже распоясался, а вот видишь ли, больше вечности - Страшный
суд.
На свете совсем немного счастливчиков, живущих под Богом, остальным для
того же даются дети, чтобы жить под неотступным взглядом - пусть идущим
не сверху, пусть пока еще снизу.
Так примерно он это и сформулировал - в желто-зеленой, клетчатой книжке,
давно, Кириллу было не больше шести. Он беззвучно смотрел, как ты ешь,
как бреешься, как пялишься в газету, как лаешься с Людасей, - и слова
застревали, а он все равно утягивал их в себя - он питался пространством,
его острыми клиньями - точно аэродинамическая труба. Ты же был в ней хвостом,
в лучшем случае фюзеляжем и, испытуемый, трепетал. Как сейчас. Потому
что прочтет он хоть это - молчком переврет и решит, что всю жизнь ты только
его прокурорского ока и ждал. В цирк водил, книжки с картинками покупал,
марки по альбомам раскладывал, сказки перед сном сочинял, на качелях раскачивал,
а на самом деле все только и хлопотал о помиловании!..
А тем более в новом контексте - что он хотел нарыть в секретере, что успел
ему насвистеть из Лос-Анжелеса, из небытия, вот уж поистине с того света,
"дядя Влад"? И ведь Кирка ему предложил: "А хотите его
теперешний телефон?" Нет, не взял: "Ты, пожалуйста, как большой,
сам передай отцу, что Александр Тарадай завещал долго жить. Скажи так:
ему завещал и Нине. О'кей?" - "А деньгами он нам не завещал
ничего?" - "Не учите меня жить, лучше помогите материально?!
А-ха-ха-ха! Нет, увы! Он же это не из Америки, он из Харькова это вам
завещал... А скажи мне, в Москве сейчас есть электричество?" - "Есть,
конечно!" - "Ну а там... колбаса, сахар?" - "Да навалом!
Что грязи! " - "Вот за грязь почему-то я всегда был спокоен.
Про Тарадая запомнил? Папе будет приятно!" - "Что ли приятно,
что умер?" - "Что отмучился. И что ты, как большой, все передал!"
- "Я, между прочим, на третий курс перешел!" - "Это - грейт!
Потрясающе! Бай, приятель?" - "До свидания?" - "Бай!"
Если Кирка не врет, он решил, что Тарадай - одноклассник, что Нина - тоже
их общая с Владом одноклассница или сокурсница. Если не врет, конечно...
Если Влад ничего от себя не прибавил. Ну а если прибавил или завтра перезвонит
и прибавит - от себя, от покойного Тарадая, от черта лысого?!
Потому что ведь эти книжки любую его полуправду, неправду любую оснастят
и раскаянием, и доказательствами - воображение могущественней рассудка
(о чем и Паскаль еще сожалел). Взять хоть эту, чтобы не торчала углом,
- и открыть наобум:
Мученичество невозможно (ибо бессмысленно) в постхристианском пространстве.
Ах, вот оно что - мученичество! "Типа как" Тарадая? Дальше можно
уже не читать:
И тем не менее трагедия Заратустры в том, что он не был распят - на скале.
И орел, его спутник и ученик, не клевал ему печень. Всякое фундаментальное
открытие в качестве частных случаев обязано сохранять предыдущие абсолюты.
В это Кириллу все равно "не въехать" - ни сейчас, ни потом
- не читает он книжек. А вот мученик "типа как" Тарадай - тут
всё ясно, спасибо, дядя Влад объяснил...
Не говоря уже о юности - еще одной родовой схватке,
когда ты снова летишь головой вперед... Ах, вперед головой?!
Это - грейт. Верный признак того, что всё так именно и случилось! Он швырнул
записную книжку, отскочив от стены, она шлепнулась в общую кучу.
Владик с детства любил неприметно человека подставить, чтобы потом лупоглазо
за ним наблюдать. И чем ближе был человек, тем сильнее он это любил. В
его серых, бестревожно непроглядных, как у младенцев, глазах можно было
прочесть, что угодно, - и Игорь читал - готовность проверить на вшивость,
охоту вот так, непредсказуемо и парадоксально уму-разуму тебя поучить,
а быть может, и фамильным героизмом блеснуть, если что, если ты к нему
сунешься: "Ты! Владюга! Да как же ты мог?" - а он тебе китель
из шкафа с дедовыми колодками, и к ним наградные бумаги, ржавой скрепкой
заколотые, которая, вот же, и сама сейчас закровит, только двинь ее: "А
это ты видел? Он командира раненого сам раненый, пехом из окружения нес,
на себе, двадцать пять километров! Гусины своих не сдают!" В десять
лет это действовало неотразимо. В четырнадцать Влад научился картинно
смеяться со скрещенными на груди руками, с чуть запрокинутой головой.
Унижая тебя этим смехом, возрождая? Расставаясь посредством него с твоим
прошлым? А потом все сначала: "Ты! Владюга! Да как же ты мог?"
Это были качели, метавшиеся по вымороченному Евклидову пространству юности.
Почему Евклидову? Понимающему достаточно.
Кажется, в той же матерчатой книжке - можно даже найти, впрочем, Игорь
помнил и так - он развил этот троп: избыточное пространство молодости
было отождествлено с Римановой геометрией, изогнувшей свой подвижный хребет
в тоске по физике - по полноте осуществления, возможной лишь в зрелости
- в Эйнштейновой вселенной, в которой уцелел лишь один абсолют - неодолимый
предел скорости, но возможно, что после смерти энергия души одолевает
и его (вопросительный знак), врываясь в немыслимые, то есть мыслью еще
не изведанные, пространства.
И все это взять и, по милости Влада, похерить?
Подхватив с подлокотника ворсистую Наткину подушечку, застроченную сердечком,
он промокнул пот на груди и в паху... Он подумал: а если сесть и написать
все, как было? что уж такого, собственно говоря, было - ничего особенного
и не было, если на вещи смотреть без предвзятости и подвоха, - ворс не
впитывал пота, а лишь размазывал его по коже.
Ворсинки памяти устроены похожим образом. Но, кроме запахов, они удерживают
еще слова и картинки: залитую солнцем улицу, съеденные им сугробы, на
которые ты смотришь поверх такой же серой, состарившейся за зиму ваты,
со звоном остановившийся трамвай, из которого выскакивает вагоновожатая
в толстых коричневых чулках и с усилием, выставив обтянутый суконной юбкой
зад, переводит ломиком упрятанную в рельсах стрелку, и насмешливую распевность,
с которой Нина говорит тебе в спину: "Уеду, и вы опять будете просирать
свою жизнь, как раньше, как до меня просирали!" - и по-китайски грозное
"дзынь-дынь" сорвавшегося с места трамвая... После выстрелов
на Даманском все почему-то с веселым ужасом ожидали войны с Китаем, отец
любил повторять: английский учат те, кто уезжает, китайский - те, кто
остается.
Да, одни лишь слова и картинки, как и в памяти человечества - только библиотеки
и пинакотеки. А человеки? Какие-такие человеки? И об этом он тоже ведь
думал, по сути - об этом:
Человеческая жизнь есть последовательный ряд инкарнаций: я-мальчик мертв,
я-отрок умер, я-юноша почил в Бозе. Как же может бояться смерти тот, кто
проживал ее неоднократно?
Это надо все время иметь в виду, вспоминая других и как будто - себя.
В первый миг она показалась дюймовочкой, только вместо лепестков распускались
и отлетали клубы дыма - встреча 23 февраля, как всегда в огромной Владиковой
квартире всей группой и еще какими-то бывшими одноклассниками: старые
связи пока не менее важны, чем новые, - первый курс! Голова плывет, почти
как сейчас. Лепестки отлетают, дюймовочка стоит с сигареткой, рот огромен,
но и по-детски мал, пухлые губы рвутся не вширь, а ввысь, на сине-серых
глазах поволока, и вот пойди угадай: как-то она искажает картинку? Только
скулы напористы, почти агрессивны. ("Из Москвы, дипломница... Инна?
Нина! Из Москвы!" - все уже знают, но снова шепчут по кругу.) Прямые
белые волосы чуть ниже плеч. Она их сердито то и дело заводит за уши.
И в их появлении столько телесного... В исчезновении и опять появлении,
и еще в том, что они у нее по-обезьяньи малы. Малы до того, что уже непристойны.
Их прятать бы надо, но Нина их снова размашисто обнаруживает и громко
смеется - не над кем-нибудь, а над умницей Пашкой Великим, нашей гордостью,
нашим единственным на три класса серебряным медалистом, плюс еще и разрядником:
первый юношеский по шахматам и второй взрослый по пинг-понгу. В ее смехе
так много стеклянного, колкого, что звенит он уже в тишине. Пашка подавленно
ворчит: "Не согласен!" А дюймовочка весело озирается: "Товарищи!
Неужели все в этом городе полагают, что западные студенты с жиру бесились
и только?! Весь мир на уши поставили, оттого что с жиру бесились!"
Владик спешно срывает с гвоздя гитару, пускает пальцы в бешеный галоп;
его папа - главный конструктор закрытого "кабе", и то, о чем
можно вдвоем и шепотом, недопустимо в их доме при всех.
"Там учатся только дети богатых! А про что вы имеете в виду?"
- это староста группы Оксаночка, она полгода как из Богодухова, она в
самом деле ни сном, ни духом о чем бы то ни было. Владик с яростью хрипит
под Высоцкого: "В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то
вдруг вне графика случилося несчастье..." - "Про что я имею
в виду, за это я и хочу вам сказать! - весело кричит Нина, протискиваясь
к дивану; одну ладонь она кладет на струны, другой закрывает Владику рот.
- Поднимите руки те, кто никогда ничего не слышал о студенческих выступлениях
в Европе в позапрошлом году!" Оксаночка и за нею все девочки чуть
испуганно тянут руки. Влад умоляюще, брови домиком, смотрит на Игоря,
а тому нетрудно, проигрыватель на тумбочке рядом - бороздки с шипением
покачивают иглу, и вот уже громкий соцстрановский шлягер (а других на
пластинках, наверно, и не было) разворачивает коленки и тазобедренные
суставы, танец называется твист - танцуют все! И только Нина, а следом
за нею Пашка Малой и Влад прыгают по-новомодному, как на протезах. "Шейк,
шейк, шейк!" - кричит в такт Пашка Малой. Это он привел Нину, это
в коллекторе у его матери она проходит преддипломную практику. И провожать
Русская студентка дала в попку своему репетитору
Пьяных сучек имеют все подряд во все дыры
Пьяных сучек имеют все подряд во все дыры