Электромозг

Поскольку тема российской микроэлектроники вызывает у моих читателей стабильно высокий интерес, я довольно часто пишу о знаковых событиях, происходящих сегодня в этой отрасли, и всякий раз в комментариях встречаюсь с порою очень резким скептицизмом. И это неудивительно, учитывая весь предыдущий печальный опыт попыток всяческих «прорывов» и разочарований общества в способностях нашей страны и власти сделать хоть что-нибудь достойное.
Действительно, все былые громкие заявления о прорывах типа планшетов от Роснано, ё-мобилей от Прохорова и йота-фонов от Йоты сошли на нет. Всё, хоть чем-то похожее на микроэлектронику, оказывалось китайской поделкой. Выделяемые деньги на различные проекты в сфере IT выливались после реализации этих проектов в какое-то никому не нужное недоразумение типа поисковых систем Спутник и т.п.. Отсюда и логичные утверждения о том, что все выделяемые на микроэлектронику деньги всё равно попилят и опять ничего не будет.
Часть общества считает, что для поднятия микроэлектроники просто надо выделять на неё реально большие деньги, а другая — что выделять не надо, потому что всё равно всё попилят. Со всем спектром мнений на этот счёт вы можете ознакомиться в комментариях к этой статье :-)))
В общем, консенсуса в обществе не было и нет.
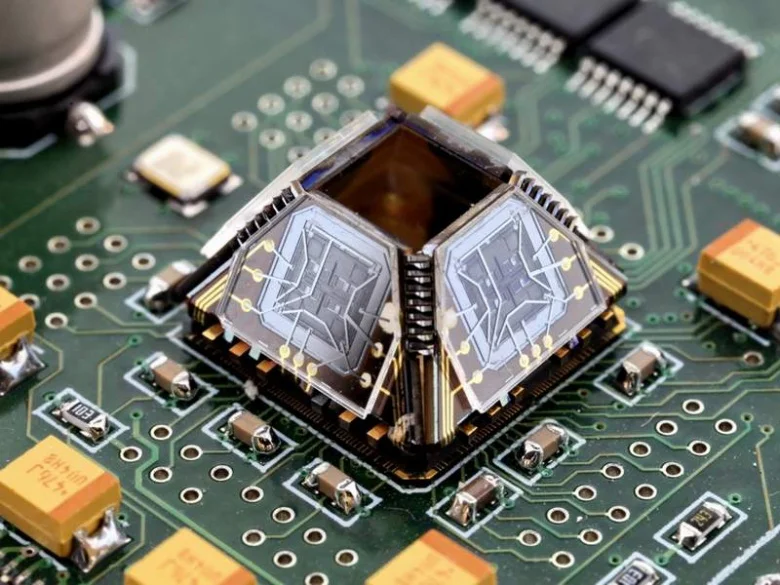
Вообще, напрашивается следующий рецепт. Большие деньги на отечественную микроэлектронику, конечно, выделять нужно, иначе её точно не будет. Другое дело, что одновременно нужно менять и условия финансирования, чтобы максимально сузить зону потенциальных распилов (организовать, в терминах микроэлектроники, т.н. «квантовую яму»), в том числе и для упрощения контроля, иначе эффективность такого финансирования будет продолжать сохраняться на низких значениях.
Кстати, распил распилу рознь. Распилом до кучи часто называют просто недостаточно эффективное использование средств. В результате деньги потрачены неэффективно, но какой-то выхлоп всё же есть и какие-никакие компетенции по теме всё же получены. Поэтому в таких случаях нельзя сказать, что эффекта нет совсем. Поэтому, давайте не будем бросаться словами и называть всё, что только можно, распилом.
Одновременно нужно менять внешние условия для разработчиков и производителей, которые сталкиваются с неподъёмной конкуренцией с уже раскрученным до предела производителями зарубежной микроэлектроники. Например, стимулировать спрос внутри страны государственными субсидиями и госзакупками.
Предпосылки перемен. Послание Президента 2018.
В марте 2018-го года в Послании Президента Федеральному Собранию демонстрируются новые виды вооружений. Тот случай, когда СМИ широко не анонсировали грядущие разработки, а ранние утечки выглядели больше как фантастические слухи. Поэтому, когда об этом было объявлено всенародно, часть оппозиционно настроенного общества просто не поверили, и называли это «мультиками». Всё правильно, первое реакция — это шок и отрицание. Только в США молчали, что объяснимо — разведка у них, несомненно, работала, и кое-что уже знала.
Фактически, президент максимально публично зафиксировал лидерство России в области вооружений. Многие спрашивали «Ну зачем так обострять? Зачем такая воинственная риторика?». Обычно Путин очень мягок в своей позиции, я бы сказал, что слишком мягок, пока не припрут. Первый раз, видимо, припёрли в 2007-м (мюнхенская речь), ну вот и в 2018-м, видимо, надо было показать силу, чтобы ложным впечатлением о слабости своей не спровоцировать потенциальную агрессию США, ожидавшуюся аналитиками в ответ на грядущие перемены, на тот момент ещё неизвестные широким массам.
Помимо демонстрации вооружений, президент заявил также о важности внедрения цифровых технологий в экономику, о необходимости создания собственных цифровых платформ, совместимых с глобальным информационным пространством, о возможностях внедрения сетей передачи данных пятого поколения, о центрах хранения, обработки, передачи и надёжной защиты информационных массивов, так называемых больших данных. и т.п. А всё это имело смысл совместить с развитием собственной микроэлектроники, чтобы потраченные на оборудование деньги по-максимуму остались внутри собственной экономики.
Начало изменений. Продавливание МВФ.
Я раньше не понимал, почему государство не вкладывает огромные накопленные резервы в собственную науку, технологии и промышленность. Ведь только производя самостоятельно можно сократить траты на покупку извне, а в своём пределе и зарабатывать, продавая готовый продукт вовне! Но события последнего времени внесли для меня ясность, расставив всё по своим местам.
Многие считают, что виной всему коррупция чиновников. Но это, ребятки, ширма, за которой прячется главная беда России — несуверенность её финансовой системы. Россия банально несуверенна. Она не может по своему усмотрению распоряжаться собственными деньгами (например, накопленными в ФНБ, Фонде Национального Благосостояния). Ими управляет МВФ (Международный Валютный Фонд) и успешность нашего технологического и промышленного развития в первую очередь зависит от того, насколько сильно мы сможем его прогнуть.

Ещё в мае 2019-го года МВФ заявлял:
Официальным органам рекомендуется воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами ФНБ, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности.
Другими словами, нам было открытым текстом велено продолжать инвестировать в иностранные активы! Руководитель миссии МВФ Джеймс Роаф прямо заявил (извините за непричёсанный перевод):
Возникает вопрос, что будет происходить после достижения уровня в 7% ВВП. Мы видим какие-то аргументы, которые могут оправдать и то, что эти средства по превышении этого уровня могут инвестироваться в более долгосрочные активы какие-то за рубежом. Вряд ли имело бы смысл это инвестировать во внутреннюю экономику. Необходимо сберегать эти средства, может быть, вкладывая в зарубежные активы.
То есть, они не краснея велят нам тратить свои средства на развитие иностранных экономик и, видите ли, не видит смысла инвестировать в собственную экономику! Честно говоря, когда я об этом прочитал, я поперхнулся от их наглости.
Но, видимо, во второй половине 2019-го года начало что-то происходить, и под давлением неких неизвестных мне обстоятельств уже в ноябре 2019-го года позиция МВФ была немного скорректирована. МВФ по-прежнему за инвестирование в зарубежные активы, но уже мимоходом допускает и другие варианты:
Бюджетное правило, в соответствии с которым нефтяные сверхдоходы автоматически инвестировались в зарубежные активы через ФНБ, успешно справлялось с задачей накопления национального богатства и защиты экономики от колебаний цен на нефть, что способствовало росту ненефтегазовой экономики. Чтобы сохранить этот положительный эффект, средства ФНБ следует продолжать инвестировать в зарубежные активы и после достижения ликвидной частью фонда порога в 7% ВВП. Любое использование ресурсов ФНБ внутри страны должно быть ограничено жесткими лимитами и строгими правилами управления фондом, обеспечивающими эффективный отбор проектов и рыночную доходность вложений.
То есть, появилась небольшая слабинка, хотя и с оговоркой того, что любое инвестирование в собственную экономику должно быть ограничено жёсткими лимитами и строгими правилами. Но упоминание про жёсткие правила выглядит уже на этом фоне, как просто попытка сохранить лицо.
Назначение Мишустина.
Если раньше я ещё сомневался, что первично, Мишустин или решение о смене финансовой политики, о котором я скажу чуть позже, то теперь всё больше убеждаюсь, что первично было всё же решение о смене политики, и специально под неё уже в январе 2020-го года поставили Мишустина, как человека, готового в этой новой реальности работать наиболее эффективно.
Тут же была утверждена Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. Довольно интересное чтиво, советую найти и почитать.

Пандемия короновируса, конечно, сильно смазала планы страны. Она отвлекла на себя и внимание и финансы. Но то, с какой лёгкостью прижимистый в лучших традициях Кудрина Силуанов расставался теперь с деньгами удивляла.
Неудивительно, что пики заболеваемости Россия прошла экономически, в целом, относительно неплохо. А кое-какой крупный бизнес даже неплохо наварился, о чём не так давно с неудовольствием высказывался даже Путин.
Вообще, «расставание» с Медведевым для меня является довольно знаковым событием. Просто так таких людей не меняют. Он же вам не Димон.
Покупка Сбера.
Не знаю, стоит ли эта странная сделка в одном ряду с предыдущим событием, но в апреле 2020-го года государство внезапно выкупило контрольный пакет акций крупнейшего банка России — Сбера, чьи активы двухкратно превышают активы ближайшего банка-конкурента, ВТБ. Покупка была произведена у Центробанка России с туманными формулировками о неких конфликтах интересов, которые раньше почему-то никого не смущали.

Про эту сделку много чего говорили, и что государство по факту зачем-то перекладывает деньги из одного кармана в другой, и что государство выкупило крупнейший банк у несуверенного Центрабанка, подчиняющегося МВФ, и т.п. Но факт остаётся фактом — пошла какая-то движуха в верхних эшелонах финансовой сферы.
Отказ от доллара
В июне 2021 года, то есть, прямо сейчас, Минфин меняет структуру ФНБ, обнуляя долю доллара. Ничего себе. Доллары заменяют вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов каждое. Таким образом, доля евро составит 40 процентов, юаня — 30, золота — 20, а британского фунта и японской иены — по пять процентов.
Постановления Правительства
Стратегия развития электронной промышленности не вышла сама по себе. Документ с подобным названием выпускался и при премьере Медведеве, но был экстренно заменён не дожидаясь срока планирования до 2025 года. Это было сделано в соответствии с поручением президента России по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента, направленных на развитие электронной промышленности и электронной компонентной базы, от 21 июня 2019 года.
В отличие от предыдущей стратегии, новая стала подкрепляться большим количеством новых Постановлений Правительства, а также существенными изменениями в старых, призванных довольно жёстко стимулировать спрос на российскую продукцию а также дающих возможность получения субсидий на НИОКР на средства производства до 90% (ПП2136), на НИОКР электронной компонентной базы и модулей на её основе до 90%, на разработку радиоэлектронного оборудования до 70% (ПП109).
Кроме того, теперь государство оплачивает до 50% затрат на внедрение решений на базе отечественных процессоров. То есть, напополам с государством (такого я ещё не припомню) финансируются компании, которые будут соединять потребителя, производителя оборудования, производителя процессора для этого оборудования и производителя программного обеспечения для этого оборудования. Которые будут собирать статистику по спросу и формулировать потребности рынка, формировать конечный заказ, каким именно должен быть процессор, чтобы его лучше продавать.
В общей сложности на всю микроэлектронику на 3 года выделяется 279 млрд рублей.
Смена формы финансирования
Если ранее государство точечно финансировало разработку и производство, скажем, процессоров, выступая в роли их прямого и конечного заказчика, то с 2021-го года принято решение коммерциализировать его разработку и выпуск. Теперь государство является заказчиком конечного оборудования — серверов, рабочих станций и т.п. на базе отечественных процессоров.
Смысл — максимально эффективно профинансировать всю цепочку производителей, по-максимуму исключив себя из мелких коммерческих взаимоотношений, сузив тем самым поле для распила. Выделяется сумма — будьте добры поставить готовый продукт. За эффективность вложений теперь борется сам бизнес, чтобы максимизировать свою прибыль, которую затем можно будет вложить в разработку нового оборудования с целью остаться на плаву и смочь произвести уже следующий заказ.
Построенная на этих принципах модель поможет производственному бизнесу раскрутиться, увеличить серийность выпускаемой продукции, снизить её себестоимость и в перспективе постепенно выйти на коммерческий гражданский рынок.
Что происходит уже сейчас
Скептики ругаются, что во всех своих статьях я пишу только о будущем. Типа, так же всегда писали и до этого, но в итоге ничего не осуществлялось. Так в чём же отличие моих статей от других?
То, что читали скептики — это журналистские восторги по поводу каких-то отдельных громких высказываний чиновников и руководителей и обмусоливание их слов на голом месте. До 2020-го года другого и не было. Было слишком мало объективных предпосылок для того, чтобы можно было надеяться, что процесс действительно пошёл. Не было базы, не было серьёзной масштабной государственной поддержки. Были точечные вливания в виде финансирования Сколково, которые мало к чему привели.
Начиная с 2020-го года уже стали видны серьёзные намерения властей решить, наконец, вопрос с микроэлектроникой. Достала, она, видимо всех вконец. В этот раз написана не только Стратегия, и не только ужесточены старые и написаны новые Постановления Правительства, но и стала видна реальная массированная работа по продавливанию задуманного.
Так, сейчас активно создаются т.н. центры компетенций. Например, «Ростелеком» недавно создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессоры Эльбрус. Там уже началась разработка новых и миграция существующих программных решений под серверное оборудование с этим процессором. Цель нового подразделения — не просто помочь организациям бесшовно перейти на отечественное ПО и перенести софт на Эльбрус, но и сделать это так, чтобы влияние перехода на их бизнес было минимальным.

Кроме того, создаётся множество т.н. дизайн-центров и центров коллективного проектирования для разработки микроэлектроники. К 2024 г. (да, я опять о будущем, но ведь не на пустом месте) благодаря им планируется подготовить около шести тысяч высококвалифицированных специалистов отрасли. Планируется организовать не менее 300 таких центров по всей стране. Поскольку часть таких центров уже есть, то будут появляться и другие, не сомневайтесь. Даже если их будет меньше, а квалификация подготовленных там специалистов будет не топовой, выхлоп от этого всё равно будет. Это уже не точечные эксперименты, это осмысленная массовая политика.
Конечно, рано ещё говорить о конкурентоспособной серийной продукции в то время, когда её ещё нет или есть только малая её часть. Мы стоим у истоков, всё только зарождается. Со времени смены промышленной политики по микроэлектронике прошёл только 1 год.
Но уже сегодня просматриваются конкретные результаты вышеописанных действий властей. Растёт количество коммерческих компаний, уже занимающихся разработкой компьютеров на процессорах Эльбрус и Байкал. Расширяются линейки разрабатываемой и производимой продукции.
Так, недавно я уже писал об одной такой компании, которая приступила к проектированию гражданского ноутбука на процессоре Эльбрус 2С3. До этого её продукция ограничивалась серверами на процессорах Эльбрус предыдущего поколения. Скорее всего и другие компании начали разработку устройств под новую линейку процессоров, в том числе и ноутбуков, просто утечек от них пока не было.
О том, что власти не оставят в покое этот вопрос и не пустят его на самотёк, говорят также и кадровые решения. Так, в Минцифре сейчас создаётся новый департамент. Ранее вопросы развития микроэлектронной промышленности находились только в ведении Минпромторга, а вопросы развития IT-сферы контролировал Минцифры. Новый департамент позволит решать проблемы индустрии комплексно.
В общем, когда у властей есть воля дожать какой-то вопрос, он будет дожат даже несмотря на мнения воющих от проблем организаций о невозможности перехода на отечественные компьютеры и ПО. Да, куча неудобств, куча затрат, куча головной боли. Злость и вопросы типа «ну зачем, когда всё ещё доступен более удобный продукт». Непременная пробуксовка и с переводом школ на отечественное ПО (согласно выводам свежего всероссийского исследования «Академии АйТи», проникновение отечественного софта в российских школах на 2021-й год не превышает 6%). Да, не без этого.
Но без жёстких мер, например, при премьере Медведеве, ничего не получилось кроме точечных пробных вещей типа ЦОДа паспортно-визовой службы, работающего на Эльбрусах с 2017-го года. Поэтому только жёсткая принудиловка и допиливание ПО и железа на ходу. В других условиях это всё просто будет допиливаться десятилетиями. А в жёстких условиях мобилизации и оборудование и ПО достигнет мирового уровня уже в течение нескольких лет. Думаю, через 3-4 года уже можно будет получить удовлетворительный результат.
Заключение
Итак, вкратце перечислю последовательность событий, заставляющую серьёзно задуматься о происходящим. И касается это, очевидно, не только микроэлектроники.
- Март 2018-го — В Послании Президента Федеральному Собранию демонстрируются новые виды вооружений. Фактически максимально публично фиксируется лидерство России в области вооружений. Объявляется курс на цифровую экономику и цифровые технологии.
- Май 2019-го — МВФ всё ещё продолжает запрещать вкладываться в собственную экономику, и требует, чтобы мы вкладывались исключительно в зарубежную.
- Ноябрь 2019-го — МВФ уже допускает вложения в собственную экономику.
- Январь 2020-го — С поста премьер-министра уволен Медведев и назначин Мишустин. Выходит новая Стратегия развития электронной промышленности РФ.
- Апрель 2020-го — Государство покупает у собственного Центрабанка контрольный пакет акций крупнейшего в России банка Сбербанк, т.н. странная движуха в финансовой сфере продолжается.
- Июнь 2021-го — из ФНБ полностью убирают долларовые вложения. Остаются 40% евро, 30% юань, 20% золото, 5% иена и 5% фунт.
- 2020-й и начало 2021-го года — Мишустин выпускает жёсткие постановления правительства в поддержку микроэлектроники. Для начала выделяется 279 миллиардов рублей на 3 года. Субсидии до 90%.
- Как грибы после дождя начинают расти центры компетенций и дизайн-центры по микроэлектронике.
- В министерствах создаются новые департаменты, на должности назначаются профильные люди.
К чему всё это приведёт? Реальный выхлоп ждём к 2024-му году.