Эффектные положения голой танцующей балерины
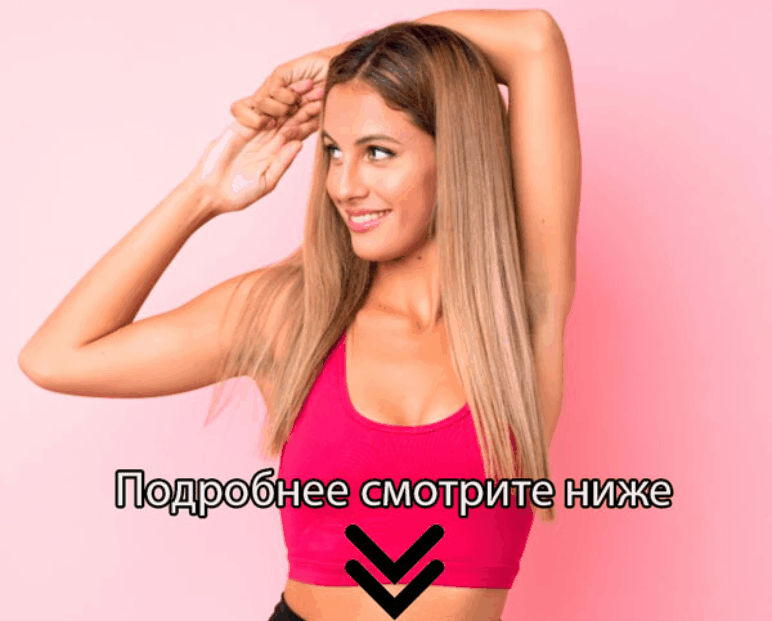
Эффектные положения голой танцующей балерины
О Собрании сочинений К. С. Станиславского
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
Книга К. С. Станиславского "Моя жизнь в искусстве"
Балет. -- Оперная карьера. -- Любительщина
Московское общество искусства и литературы
"Каменный гость" и "Коварство и любовь"
Когда играешь злого, -- ищи, где он добрый
"Не так живи, как хочется". -- "Тайна женщины"
Перед открытием Московского Художественного театра
Историко-бытовая линия постановок театра
Вместо интуиции и чувства -- бытовая линия
Вместо интуиции и чувства - линия историко-бытовая
Первая студия Художественного театра
К главе "Вместо интуиции и чувства -- линия историко-бытовая"
К главе "Общественно-политическая линия"
"Не так живи, как хочется". -- "Тайна женщины"
Перед открытием Московского Художественного театра
Историко-бытовая линия постановок театра
Вместо интуиции и чувства -- бытовая линия
Список постановок К. С. Станиславского
Московское общество искусства и литературы
Оперные постановки К. С. Станиславского
Оперная студия имени К. С. Станиславского
Оперный театр имени К. С. Станиславского
Алексеевский кружок и любительские спектакли
Московское общество искусства и литературы
Скачать FB2
Оценка: 6.99*62
Ваша оценка:
шедевр
замечательно
очень хорошо
хорошо
нормально
Не читал
терпимо
посредственно
плохо
очень плохо
не читать
Оценка: 6.99*62
Ваша оценка:
шедевр
замечательно
очень хорошо
хорошо
нормально
Не читал
терпимо
посредственно
плохо
очень плохо
не читать
Фантастика
Детективы и Триллеры
Любовные романы
Приключения
Проза
Детское
Наука, Образование
Справочная литература
Документальная литература
Религия и духовность
Поэзия
Драматургия
Юмор
Домоводство
Компьютеры и Интернет
Деловая литература
Старинное
Фольклор
Техника
Прочее
Авторы
О проекте
Обратная связь
Топ-100
Сейчас читают
Мне повезет!
Рецензий к этой книге пока нет, будьте первым!
Популярные жанры
Фантастика
Детективы и Триллеры
Любовные романы
Приключения
Детское
Деловая литература
Меню
Авторы
О проекте
Топ-100
Сейчас читают
Мне повезет!
Информационная продукция сайта запрещена для детей (18+).
© 2010 - 2022 « Читалка.Ру - читать книги онлайн »
Эта книга – о культуре движения в России от Серебряного века до середины 1930-х годов, о свободном танце – традиции, заложенной Айседорой Дункан и оказавшей влияние не только на искусство танца в ХХ веке, но и на отношение к телу, одежде, движению. В первой части, «Воля к танцу», рассказывается о «дионисийской пляске» и «экстазе» как утопии Серебряного века, о танцевальных студиях 1910–1920-х годов, о научных исследованиях движения, «танцах машин» и биомеханике. Во второй части, «Выбор пути», на конкретном историческом материале исследуются вопросы об отношении движения к музыке, о танце как искусстве «абстрактном», о роли его в эмансипации и «раскрепощении тела» и, наконец, об эстетических и философских принципах свободного танца. Уникальность книги состоит в том, что в ней танец рассмотрен не только в искусствоведческом и культурологическом, но и в историко-научном контексте. Основываясь как на опубликованных, так и на архивных источниках, автор обнажает связь художественных и научных исканий эпохи, которая до сих пор не попадала в поле зрения исследователей.
© Оформление. OOO «Новое литературное обозрение», 2012
Эта книга посвящается моей маме, Татьяне Ивановне Шадской, и всем друзьям по пляске. Мама дала мне жизнь, свет и музыку, а новое рождение – в пляске – я получила, когда в зрелом уже возрасте стала заниматься в студии музыкального движения и импровизации под руководством Аиды Айламазьян. Эта студия продолжает традиции и носит имя исторической студии «Гептахор», которую основала в Петербурге более века назад Стефанида Дмитриевна Руднева. Исторический «Гептахор» именовал себя «студией пляски», чтобы подчеркнуть, что речь идет о чем-то большем, чем танец – особом мироощущении. Позже я узнала и о других студиях и школах «свободного танца», «пластики», «художественного движения», особенно многочисленных в начале ХХ века. Мне посчастливилось встретить некоторых из тех, благодаря кому свободный танец, гонимый в советские годы, дошел до наших дней: Ольгу Кондратьевну Попову, Инессу Евдокимовну Кулагину, Валентину Николаевну Рязанову, Ию Леонидовну Маяк. Осмыслить новую для меня тему помогла работа семинара «Музыка и движение», организованного на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Аидой Меликовной Айламазьян. На заседаниях семинарах обсуждалась, в частности, созданная «Гептахором» система «музыкального движения»; она послужила мне для уяснения тех принципов движения, которыми руководствовались в своей практике герои книги. Главный акцент в ней сделан на истории танца как составной части культуры; знание же, как писать историю культуры, приходило на протяжении многих лет работы в Институте истории естествознания и техники РАН. Наконец, для понимания междисциплинарных связей и философских аспектов танца мне много дали конференции «Свободный танец: история, философия, пути развития» (Москва, 2005) и «Свободный стих и свободный танец: движение воплощенного смысла» (Москва, 2010), организованные при моем участии. Работая над разными частями книги, я пользовалась советами и замечаниями Петра Вадимовича Андреева, Кирилла Олеговича Россиянова, Роджера Смита, Надежды Юрьевны Шуваловой – назвать здесь всех просто невозможно. Когда же был готов ее первый вариант, меня очень поддержала замечательный историк танца, Елизавета Яковлевна Суриц. А совершенствовать рукопись активно помогала редактор «Нового литературного обозрения» Инна Робертовна Скляревская. Всем им я приношу свою глубокую благодарность.
Эта книга – о «свободном» или «пластическом» танце в России начала ХХ века, о его создателях, эстетических принципах, его судьбе в первые советские десятилетия.
О танце много писали как об одном из видов искусства – искусстве сценическом, части театра. Но танец больше, чем сцена, – это особая культура, целый жизненный мир. В феноменологии под «жизненным миром» понимают «универсум значений, всеохватывающий горизонт чувственных, волевых и теоретических актов»[1]. То, что танец представляет собой такой универсум, со своим набором практик и эстетик, своими ценностями и задачами, иногда почти мессианскими, стало ясно в начале ХХ столетия. Именно тогда появился новый танец, отличавший себя от балета и назвавшийся «свободным» или «пластическим»[2]. Амбиции его создателей не ограничивались сценой: эти люди чувствовали себя не просто танцовщиками и хореографами, а – визионерами, философами, культуртрегерами. Из «выставки хорошеньких ножек» и «послеобеденной помощи пищеварению»[3] они хотели превратить танец в высокое искусство, сделать «шагом Бога»[4]. В новом танце им виделся росток культуры будущего – культуры нового человечества. Наверное, поэтому в реформаторы танца попали в том числе изначально не театральные люди – такие, как швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-Далькроз или создатель антропософии Рудольф Штайнер. Далькроз основал свой Институт ритмики с «религиозным трепетом»; имея уже полтысячи учеников, он мечтал, что ритмика станет искусством универсальным и завоюет весь мир. Штайнер создавал свою «эвритмию» как молитву в танце, как часть антропософии – религии нового человека. С помощью танца Айседора Дункан хотела приблизить приход свободного и счастливого человечества; она обращалась не только к эстетическим чувствам своих современников, но и к их евгеническим помыслам, говорила о «красоте и здоровье женского тела», «возврате к первобытной силе и естественным движениям», о «развитии совершенных матерей и рождении здоровых детей». В танце, говоря языком Мишеля Фуко, она видела «новую человеческую технологию», которая поможет пересоздать личность. Ее программная статья «Танец будущего» (1903) – парафраза артистического манифеста Рихарда Вагнера – зажгла не меньше чистых сердец, чем ее знаменитый предшественник[5]. Танец Айседоры вкупе с ее философией привлекли меценатов, давших деньги на создание школ танца в Германии, России и Франции – школ, из которых должны были выйти первые представители нового, танцующего человечества.
В вагнерианской утопии о новом, артистическом человечестве танцу принадлежала ведущая роль, и даже ницшеанская «воля к власти» вполне могла трактоваться как «воля к танцу». Айседора представляла себя «полем боя, которое оспаривают Аполлон, Дионис, Христос, Ницше и Рихард Вагнер»[6]. С легкой руки Ницше, пляска стала для его читателей символом бунта против репрессивной культуры, пространством индивидуальной свободы, где возможны творчество и творение самого себя, где раскрывается – а может быть, впервые создается – человеческое я, личность. «Танцующий философ» признавался, что поверит «только в такого Бога, который умел бы танцевать», и считал потерянным «день, когда ни разу не плясали мы!»[7] Он имел в виду – комментировала Айседора – не пируэты и антраша, а «выражение жизненного экстаза в движении». Создавая свой танец – глубоко эмоциональный и личный, Дункан претендовала на то, чтобы переживать на сцене экстазы и упиваться собственной «волей к танцу». Этим же она привлекала зрителей, любовавшихся «восторгом радости у плясуньи» и считавших, что ее нужно видеть «хотя бы только из-за этой ее радости танцевать»[8]. Пляска-экстаз, пляска-импровизация стала самой характерной утопией Серебряного века. Человеку – писала одна из последовательниц Дункан – надо прежде всего пробудить свою «волю к импровизации». Плясовая импровизация – это «проявление и осуществление своего высшего духовного и физического я в движении, претворение плоти и крови в мысль и дух, и наоборот»[9]. В «импровизации побуждающей и вольной» человек, по словам танцовщика Николая Познякова, становится «самодеятельным и цельным»[10]. Современники Дункан видели в свободном танце средство вернуть некогда утраченную целостность, преодолеть разрыв между разумом и эмоциями, душой и телом.
В России Дункан произвела культурную сенсацию[11]. Грезившие о «дионисийстве» и «вольной пляске» символисты увидели в ней современную вакханку. Ее рисовали художники, воспевали поэты, у нее появилась масса подражателей и последователей, – одним из первых и самых верных почитателей стал К.С. Станиславский, не пропускавший ни одного ее концерта. Станиславскому пляска Айседоры казалась чем-то вроде «молитвы в театре», о которой мечтал он сам. В ней он нашел союзницу по реформированию театра – одну из тех «чистых артистических душ», которым предстоит возвести новые храмы искусства. Художественный театр предоставил танцовщице помещение для утренних спектаклей и завел «Дункан-класс»[12].
С легкой руки Дункан в России появились и стали множиться школы и студии «свободного» или «пластического» танца. Дочь владельца кондитерских Элла Бартельс (будущая танцовщица Элла Рабенек) увидела Дункан во время ее первого приезда в Москву. Под впечатлением концерта она надела тунику, сандалии и сама стала танцевать, и четыре года спустя уже преподавала «пластику» в Художественном театре[13]. Увидев Айседору, не могла успокоиться и юная Стефанида Руднева; придя домой и задрапировавшись в восточные ткани, она попыталась повторить эту казавшуюся столь же экзотической, сколь и привлекательной пляску[14]. Если раньше Стеня собиралась стать учительницей словесности, то после увиденного переменила решение и поступила на античное отделение Бестужевских курсов. Там ее профессором стал филолог-античник, переводчик Софокла и ницшеанец Фаддей Францевич Зелинский. В самый канун ХХ века он провозгласил в России новый ренессанс – третье возрождение античности[15]. Возрождение античности, которое должно начаться в славянских странах, – по словам исследователя, это замысел Серебряного века о себе самом[16]. Из учеников Зелинского образовалась группа, называвшая себя «Союз Третьего Возрождения», в которую в том числе вошли братья Н.М. и М.М. Бахтины и Л.В. Пумпянский[17]. Что же касается его учениц (Зелинский преподавал на высших женских курсах – Бестужевских и «Раевских»[18]), то им уготовлялась, в частности, роль, которую с успехом играла на мировой сцене Дункан, – возрождать античность через танец. Профессор приветствовал Айседору как «свою вдохновенную союзницу в деле воскрешения античности»[19]. Поддержал он – или вдохновил – и инициативу Стени Рудневой с подругами, когда те, по примеру Айседоры, стали «двигаться под музыку». Они собирались у кого-нибудь дома и занимались под аккомпанемент фортепиано, собственное пение или «внутреннюю музыку». Они стремились не повторить хореографию Дункан, а воссоздать вольный дух ее танца – или, на языке античника и ницшеанца Зелинского, – пляски. Девушек было семь, и профессор окрестил группу «Гептахор», от греческого, επτά – «семь» и χορός – «пляска»[20].
Для Маргариты Сабашниковой (ставшей позже женой поэта Максимилиана Волошина) выступление Дункан тоже было «одним из самых захватывающих впечатлений»[21]. А семилетний Саша Зякин (впоследствии танцовщик Александр Румнев) загорелся идеей танца даже не видев самой Дункан, а лишь услышав рассказы вернувшихся с концерта родителей. Тем не менее мальчик «разделся догола, завернулся в простыню и пытался перед зеркалом воспроизвести ее танец»[22]. Еще неожиданней была подобная реакция у взрослого мужчины – скромного чиновника Николая Барабанова. Попав на выступление Дункан, он был столь поражен, что решил сам овладеть ее «пластическим каноном». На досуге, запершись у себя в комнате, Барабанов упражнялся перед зеркалом, а потом и вовсе «сбрил свои щегольские усики, выбрал себе женский парик, заказал хитон в стиле Дункан»[23]. Кончил он тем, что под псевдонимом Икар с танцевальными пародиями выступал в кабаре «Кривое зеркало».
Российские последователи Дункан усвоили сполна и ее философию танца, и мессианский пафос. Стефанида Руднева, Людмила Алексеева и другие, как их тогда называли, «босоножки» или «пластички», занимались движением не столько для сцены, сколько – по выражению первой – для воспитания «особого мироощущения» или – по словам второй – с «оздоровляющими и евгеническими целями»[24]. Направление студии «Гептахор», названное ими «музыкальным движением», было адресовано как взрослым, так и детям, а «художественное движение» Алексеевой – всем женщинам.
На какое-то – пусть краткое – время движение стало экспериментальной площадкой не только в искусстве, но и в науке. В 1920-е годы в Российской академии художественных наук (РАХН) возник проект создания единой науки о движении – кинемалогии, куда кроме танца должны были войти такие разнообразные предметы исследования, как трудовые операции и способы передачи движения в кинематографе. Хотя этот замысел, как и проект Высших мастерских художественного движения, не был осуществлен, он вызвал к жизни несколько интереснейших начинаний. В частности, в РАХН образовалась Хореологическая лаборатория, которая устроила ряд выставок по «искусству движения». Исследователи утверждали, что движения актера в театре и рабочего на заводе подчиняются одним законам. Для отработки движения практичного и экспрессивного Всеволод Мейерхольд создал свою биомеханику, Николай Фореггер – «танцы машин» и «танцевально-физкультурный тренаж», Ипполит Соколов – «Тейлор-театр», Евгений Яворский – «физкульт-танец», а Мария Улицкая – «индустриальный танец». Но в эпоху румяных физкультурников свободный танец и все его разновидности, включая «музыкальное» и «художественное» движение, оказались не ко двору. После «великого перелома» ему лишь чудом удалось уцелеть. Дитя России Серебряного века, он лишь немногим его пережил. Но за годы своего существования студии пластики, курсы ритмики и школы выразительного движения успели принести свои плоды, а сам танец прошел путь от стилизованного под античность к конструктивистскому.
Ключевая фигура в истории танца ХХ века – конечно же Айседора Дункан; из ее «свободного танца» выросла не только российская «ритмопластика», но и немецкий экспрессивный танец, и американский танец-модерн. Она стоит у истоков, от которых берут начало многие направления современного танца. Ее танец оказал влияние и на реформу балета, и на преподавание сценического движения драматическим актерам. Основав в революционной России свою школу, Дункан приобрела здесь особую славу. В книге мы не раз будем говорить о ее открытиях, как и деятельности ее современников Эмиля Жака-Далькроза, Рудольфа Лабана и других – тех, кто создавал двигательную культуру нового человека.
…в пляске все внутреннее во мне стремится выйти наружу, совпасть с внешностью, в пляске я наиболее оплотневаю в бытии, приобщаюсь бытию других; пляшет во мне моя наличность… моя софийность, другой пляшет во мне.
Первоначально «Серебряным веком» назвали эпоху в истории русской литературы – между ее классическим, «Золотым» веком и превращением в советскую[27]. Однако вскоре мифологема Серебряного века перестала ограничиваться литературой, включив и другие искусства: живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, театр. Долгое время в этот список забывали внести танец – а ведь без него история этого периода не может быть полной. Более того, свободный танец с уверенностью можно считать феноменом именно той эпохи, когда умами властвовали «философ-плясун» Ницше и «дионисиец» Вячеслав Иванов[28].
«Я хочу видеть мужчину и женщину… способными к пляске головой и ногами», – говорил ницшеанский Заратустра[29]. Человеку, разделенному на рацио и эмоции, на тело и дух, пляска должна была принести исцеление. В ней – верил Максимилиан Волошин – сливается «космическое и физиологическое, чувство и логика, разум и познание… Мир, раздробленный граненым зеркалом наших восприятий, получает свою вечную внечувственную цельность»[30]. Вслед за Вячеславом Ивановым, интеллектуалы Серебряного века мечтали о современных вакхантах, «слиянии в экстазе», трансцендирующем человечестве. Увидев в Айседоре Дункан ницшеанскую плясунью par excellence, они стали самой благодарной ее публикой. Для Александра Блока она была символом Вечной Женственности, Прекрасной Дамой: на стене его комнаты вместе с «Моной Лизой» и «Мадонной» Нестерова висела «большая голова Айседоры Дункан»[31]. Сергей Соловьев воспевал «Нимфу Айсидору» (sic!) античным размером – алкеевой строфой[32]. Волошин представлял ее танцующей на плитах Акрополя – «одетой в короткую прозрачную тунику молодой амазонки, высоко перетянутую под самой грудью»[33]. Андрею Белому танцовщица казалась провозвестницей «будущей жизни – жизни счастливого человечества, предающегося тихим пляскам на зеленых лугах». Заглавие его к
Пригласил студентку в гости и отжарил членом в презервативе
Чувственный трах с бабой (15 порно фото)
Две лесбиянки у бассейна на шезлонге раком вылизывают половые щелочки