Девушка хотела перекусить в лимузине а получилось даже потрахаться
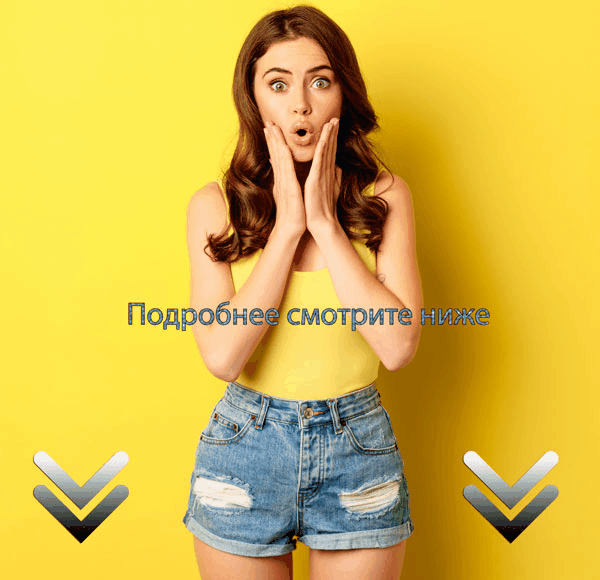
Девушка хотела перекусить в лимузине а получилось даже потрахаться
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОСТРОВ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИВАНОВЫХ
2. БАШКАРМАК ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА
3. ТЮП ЗЕМЛИ
4. ДЕРЖАВЮ. ОТКЕДА И КУДЫ
5. ЛИР. КОРОЛЬ ЭРОГЕННОЙ ЗОНЫ
6. ANAHERRAT
ЭПИГРАФ:
«Всю жизнь я дул в подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки. А потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни черта не видно. Мы осушали реки и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно и реки – тоже». Сергей Довлатов.
Глава1: НА КАЖДЫЙ ПОПКА ЕСТ СИКИТКА
Глава 2: ПО ГРОБ ЖИЗНИ
Глава 3: ХОРОШО ЛЕТИМ
Глава 4: ХОРОШО ЛЕЖИМ
Глава 5: ПЫРСЯГА
Глава 6: ANAHERRAT
ОСТРОВ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИВАНОВЫХ
- Уху просил перед смертью? – осведомился Авксентий Яковлевич.
- Уху не просил. Попросил тюрю и кислую капусту с отварной медвежатиной, - доложила Ефросинья.
- У него же зубов нет, - удивились собравшиеся. – Как ему с медвежатиной управиться?
- Я так же подумала. Но раз человек в таком состоянии, лежачий, просит, разогрела в казане со вчерашнего. Жалко что ли? Там много еще оставалось. Молодая была медвежатина, - оправдывалась Ефросинья. – Пока у печи возилась, он руку протянул, вроде как по заднице хотел похлопать, но не дотянулся. Вот столечко, - уточнила Ефросинья. - Поикал, поикал и помер в своё удовольствие.
- Достойно ушел, - выслушав Фросю, заметил Авксентий Яковлевич. И мельком окинул бабские нюхи у гроба, какую сам бы хотел похлопать перед кончиной. - Мир праху Иакова. Жалко, до девяноста не дотянул.
- Жалко, испортил праздник, - вздохнула Ефросинья.
- Готовились, - подала голос Катерина. - К юбилею хотели стенгазету выпустить. Стихи сочиняли: «Доярки, мля, нуждаются в подойниках. Россия, мля, нуждается в покойниках».
- Но это мы так, - оправдывалась Ефросинья, - мы не вперед думали. Мы взад истории смотрели.
Ну, ладно, что в зад, одобрили направление Ивановы.
Загодя сработанный гроб установили в «Белом доме», после смерти других однофамильцев ставшем ничейным. В прежние времена был «Красный уголок» - теперь «белый», и уже не уголок, а Дом. Другой статус. Цвет поменяли согласно тренду, содержание осталось красное, согласно привычке побаиваться комиссаров, – старые колхозные награды, подшивки истлевающих газет, бестселлеры типа «Василий Теркин на том свете» поэта-земляка Твардовского. Покойника обрядили в парадный суконный костюм с орденом Красной звезды и фронтовыми медалями. На кладбище повезли в тачке, которая многие годы служила Якову Павловичу для сбора и доставки во двор печного топлива – сухостой, ветки, сучья, поленья. Яков Павлович хранил в голове фантомный недуг военного происхождения: у него постоянно мерзли руки. Он поддерживал в печи вечный огонь и грел пальцы, окуная ладони в пламя. Всё боялся, что дров не хватит. Прочие Ивановы втихаря подкладывали ему на лесных дорожках удобный для растопки сушняк. Дед радовался удачным находкам, как грибник на тихой охоте.
Причина мозгового заскока была уважительная. В январской Висло-Одерской операции 1945 года восемнадцатилетний боец Иванов, выполняя приказ маршала Жукова, успешно прорвал оборону немецких войск группы армий «Центр» на Висле, освободил Варшаву, окружил группировку противника в Бреслау и Познани, освободил западную Польшу, форсировал Одер и вступил на территорию Германии, заняв выгодное положение для наступления на Берлин. И в последний, 23-й день блистательной операции его нашла фашистская пуля. Бывает, рябь твою мать! Война. Не одного восемнадцатилетнего Иванова в том победном бою подстрелили фашисты. Многих. Хоронить по-людски не было времени. Приказ гнал вперед! На Берлин! Семьдесят километров оставалось. Потом, мол, на обратном пути дохороним с оркестром, в братской могиле. Да и холодно было, снег шел, сапоги вязли, скользили. Положили убитых в общую траншею, прикопали на треть штыка, сосновыми лапами прикрыли, легли спать до ранней утренней побудки. Усталые штабные писари отписали дежурные бумаги: наверх доложили о победах и безвозвратных потерях для статистики, в тыл отправили похоронки. Про бойца Иванова Якова Павловича родным и в военкомат отправили: «Пал смертью храбрых». В этом месте судьба бойца как бы ухмыльнулась на манер писателя Гоголя и ушла куролесить над пропастью между словами и смыслами, в дебрях параллельной реальности. Аки самодостаточный нос Николая Васильевича.
Когда павших смертью укладывали штабелями в траншею, Яков Иванов оказался не в нижнем, третьем ряду, а в верхнем, наскоро присыпанном мерзлой землей. Руки остались наверху. Он сучил, сучил ими, нос, рот освободил для дыхания и крику: «Живой я! Здеся». По счастью, докричался, но тут же и раздвоился по разным мирам. В бумажном мире лег папкой в архив, в телесном, кровеносно-сосудистом - чуть не до смерти обрадовал мать явлением с того света. Явился и продолжил жить в полном гражданском повиновении, позванивая орденом и медалями. Руки мерзли, а так ничего, главное - мужское достоинство отстоял. С островитянкой и однофамилицей Ивановой Марией Митрофановной продолжили род сыном Сеней. Вот он Сеня, у гроба слезу утирает, в 69 лет остался сиротой, на голове плешь, лицом печальный, вылитый артист Евстигнеев из кинофильма «Зимний вечер в Гаграх». Теперь за старшего на острове Ивановых.
По-хорошему, по православному надо бы отпеть Якова Павловича, да никто не умел. Обошлись гражданской панихидой на родовом кладбище, принимавшем покойников на взгорье, среди черных каменных валунов и белых берез. Березы стояли тесно, как зубы во вставной голливудской челюсти. С любовью к покойникам, к тому свету стояли.
- Там согреется , - сказал Авксентий Яковлевич, бросая в могилу с комьями земли березовые поленца. – Теперь уже вряд ли оживеет.
- Успешный был человек, - подхватили Ивановы.
Попрощавшись, пошли извилистой, корявой тропинкой вниз, к сиротеющему жилью, через огороды, сараи, мимо кузницы, бань, сеновалов, дегтярной ямы, цистерны с соляркой, рыбацких сетей - к поминальному столу в Белом доме, к важному разговору о самом смысле жизни Ивановых, о проблеме их размножения, восполнения рода на неблагоприятном этногенетическом и геополитическом фоне. Сколько их осталось в наличности? Авксентий, жена его Агафья Евстафьевна, ростом полтора метра с гаком, но кряжистая, стыдится нечего. Их дочери: Катерина, старшая, скоро полтинник, форматом вширь вся в мать, и Ефросинья – младшая, 39 лет, ни рожи, ни кожи. Еще двое Ивановых - иносемейные, однофамильцы. Чокнутый предпенсионер Федор и матушка его Аполлинария, некованая кляча в галошах. Всё. С сегодняшнего дня минус один Иванов. Переглянулись - кто на очереди? И быстро опустили глаза.
- Что там Мумука? - обратился Авксентий Яковлевич к Ефросинье. Это был злокачественный вопрос. По большому счету, вопрос жизни и смерти Ивановых. Они были глубоко, в самом прямом смысле млекопитающие и всецело зависели от коровы Мумуки, от её удойного вымени, от парного и топленого молока, творога, сметаны, простокваши.
- 85 дней, - опустила глаза Ефросинья, будто сама была виноватая. – На 90-й день придет в охоту. Пять дней осталось.
В избе повисла тяжелая, как топор, тишина. Можно сказать, гробовая.
- С моторкой чего? - вопросом к Федору во второй раз очернил тишину Авксентий Яковлевич.
Мог бы и не спрашивать. Все и так знали: мотор сдох, у Федора руки из жопы растут, солярка на нуле. Ивановы жили на острове посреди озера Бездна, до большой земли семь километров – на веслах не угребешь, да еще с коровой на привязном плоту. А надо – не то слово. Если Мумуку в охоте срочно не доставить к быку, - конец. Корова – не баба: раз в год приходит в охоту. Останется яловой, а Ивановы - без молока. Короче, смертельный приговор.
Вопрос номер два, который еще полгода назад был первым номером, после похорон Якова Павловича отпал сам собой. Вопрос назывался «Ока». Или по-военному «Битва за «Оку». Тут такая петрушка.
На пятидесятилетний юбилей Великой Победы , 9 мая Яков Иванов обзавелся аллеей Славы и стелой павших героев в районном центре. На стеле, среди земляков героев, значилось и его имя: Иванов Яков Павлович. Отпраздновали всем миром, всё честь по чести: духовой оркестр, ружейный салют, возложение цветов. Яков Павлович, в общей группе участников церемонии, возложил цветы к прижизненному памятнику самому себе, обронил скупую геройскую слезу. И так каждый последующий год – на пятьдесят первую годовщину Победы, на пятьдесят вторую, третью… Дети, внуки надевали на него парадный пиджак с наградами, привозили в райцентр, покупали цветы и похороненный дважды заживо солдат возлагал их, стараясь поместить букет поближе к своей фамилии.
Это, конечно, Гоголь. Но не весь. Весь Гоголь явил себя в начале следующего, двадцать первого века, совместившем цифры прибыли от нефти с цифрой убыли ветеранов ВОВ в такой счастливой точке, когда правительство с облегчением могло хлопнуть себя по ляжкам и воскликнуть: МОЖНО! В смысле – можно, без большого ущерба бюджету, подарить каждому из оставшихся в живых ветеранов войны по автомашине «Ока». Лично Якову Павловичу эта «Ока», как пятое колесо телеге, а вот дети и внуки воспрянули духом. Пошли в райвоенкомат записываться в очередь. Тут-то и ухмыльнулся Николай Васильевич голосом военкома: «А вас, товарищи Ивановы, тут не стояло». Как так не стояло! А так. Нету вас в живых. Да вот же он – Иванов Яков Павлович, можно рукой пощупать. Товарищ военком залез на стремянку, достал с верхней полки архивного стеллажа папку, сдул с неё пыль толщиной в палец, полистал страницы и ткнул в нос внукам и детям: ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ ваш Иванов Яков Павлович. Вот – справка, подпись, печать. Из самой Москвы! У Москвы описки не может быть. Дальнейшее продолжение жизни товарищем Ивановым не предусмотрено. Тем более, в счастье обладания автомобилем марки «Ока» 11116.
«Да уж, рукописи не горят», - подмигнул писатель Булгаков из шинели писателя Гоголя. Никто не забыт, ничто не забыто. Позорно отступили Ивановы, бесславно проиграли битву за «Оку». Вроде как в третий раз похоронили заживо УСПЕШНОГО деда.
Ну, теперь дело прошлое. Не до жиру – быть бы живу. Что имеем? На одну детородную бабу два кавалера сомнительного мужского достоинства. С учетом местной географии можно сказать: перинатальные проблемы достигли дна. И главное - снизу никто не стучит. Полная рецессия! Хотя… Последней, как известно, умирает надежда. Бабы предлагали проверенные средства укрепления наличного достоинства: ворожбу, корень сельдерея, крапивный отвар, полифенолы, воробьиное мясо, кошку на ночь к причинному месту. На поминках тему либидо обсуждали в деталях, маневрируя по всем направлениям: секс, эрекция, эстроген, эротические танцы, материнский капитал.
«Эх, зря, - укорял себя Авксентий Яковлевич, - зря мы отказали в репатриации своему изгнаннику, Федькиному Мартыну. Прислал покаянное письмо, просился обратно, в родную Бездну. Презрели! Идиоты! Подумаешь, гей! А кто сегодня не гей? На эстраде, в телеящике, на виду… На первый – второй рассчитайсь! Половина! Это раньше было: стыдно, если ты пидор. А сейчас: стыдно, если не пидор. Лучший футболист мира Криштиану Роналду в грудь себя бьет: Да, я гей! Даёшь место в президиуме и Золотую бутсу!
Вот и Мартын Иванов поддался. И как устоять? Кто в Воронеже не гей, тот паркет в сортире драит. В Воронеже сексуальные меньшинства уже большинства, прорвались в депутаты, качают права. Короче, не выдержал Мартын воронежского напора. Его зачем послали? На курсы дегтярного промысла. Спокон веку в Бездне были свои мастера, гнали сосновый и березовый деготь, процветали! На большой земле продавали колесную мазь, продукты для смоления речных стругов, конской сбруи, сапог, бальзам для заживления ран, типа мази Вишневского, только круче. Беда – мастера выродились. Ивановы понадеялись на Мартына. Вроде смышленый, должен освоить пиролиз древесины.
Собрали вскладчину подъёмные – не подведи Ломоносов! Съездил, лизнул другой жизни - вернулся. В ушах серьга, на губах помада, над глазами ресницы граблями, в чемодане лифчики, чулки, женские трусики. Парфюмерии пять флаконов, волосы серо-буро-малиновые. Сменил имя Мартын на Мартини, потребовал уважения прав и денег на пластическую операцию носа. И главное – сукин сын! - отказался от гетеросексуального контакта с родными островитянками. «Изыди, изгой! - воскликнули Ивановы. – Гореть тебе в аду, в кипящей смоле»!
… Солнце, по правде говоря, не баловало Бездну открытым благодатным сиянием. В основном присутствовало заочным образом, прячась за тучами, облаками, туманами. Бездна была триумфом сумеречного анабиоза. Какие там пятьдесят? Сто пятьдесят оттенков серого! Даже любимицы севера березы, с любовью к покойникам осенявшие кладбище, как бы стеснялись своей белизны, подмешивали в неё разные затемнения. Однако этот вызывающе серый цвет при всей своей видимой агрессии пульсировал тонкой одушевленной жилкой. Она дрожала, бредила лилейными мечтаниями.
Если и был у царствующего серого цвета соперник, то черный. Потому что падчерица Варяжского сумрака Бездна стоит на базальте, разрывающем почву острыми коренными зубцами. И само озеро черное. Под кристально прозрачной водой покоится дно, выложенное тем же реликтовым базальтом. И подступающий к озеру лес в магической амальгаме водоёма переминается с черного на козырной серый. В той же аспидно-антрацитовой тональности небо - низкое, густое, даже твердое на ощупь. И птицы – как нотные знаки. Черные, без бемолей.
Впрочем, и на старуху бывает проруха. Иной раз с утра солнце прорвется сквозь облака и зарядит на целый день. «А давай искупнемся! – провоцируют друг дружку Ивановы, что помоложе. - А давай»! У них купелей – на каждое тело! А одна общая, с коллективной баней по-черному. От бани проложен пирс со сходнями к воде и к пляжу с парой раскладушек на мелкой черной гальке. Ну, чисто Канары!
- А давай, Фрось, окунемся, - Катерина руки в стороны развела, лицо солнцу подставила – жаворонком вознеслась, блаженствует. Покой разливанный.
- А давай. Только сперва в баню. У меня шампунь дегтярный не весь израсходованный.
В бане распарились – голышом по мосткам в Бездну! Кого стесняться? Шум, плеск, благодать. Вода теплая, градусов 20. У мостков по грудь, и плавно, плавно – по шейку, по макушку. Кувшинки расступаются, рыбки меж ног шныряют, покалывают, солнце брызжет капельками на мокрых телах сестер Ивановых. Allinklusiv! Улеглись на мостках, закрыли глаза, млеют райскими Евами. И что самое эксклюзивное – комарья, гнуса нет. Слепней – и подавно. Хвала слезоточивому дегтярному духу, которым провоняла Бездна за века прибыльного промысла.
- Сон мне приснился – не пойму, что к чему, - не поворачиваясь к сестре, не открывши глаз, начала Ефросинья. – Домовой наш приснился, Шишига. Будто я в подвенечном платье, фата, а на ногах резиновые сапоги. И мы с ним, с Шишигой, на лодке – я на корме, он гребет. В галифе с красными генеральскими лампасами, в папахе, в погонах и вот с такими буденовскими усищами на бровях - крутит лодку туда-сюда, дрифтует, как лица кавказской национальности на московских проспектах. И кричит словами той же национальности: «Рашка – говняшка»!
Замолчала, ушла в сумрак своего тревожного сновидения.
- Ну, ну, - понукает Катерина. Чует драматургию. Шишига так просто не является. Опять же свадьба. Кавказские лица. К чему бы это? И где это она видела московские улицы?
- Ну да, свадьба. А пироги, чую носом, пироги пригорели.
- А куда плывете? - В том-то и дело - вроде знакомо всё, Бездна, и вроде иноземное какое-то. То ли Швеция, то ли Венеция. Улицы как реки, дома из воды растут, тряпки на веревках от дома к дому. И платье моё за кормой тянется, стелется по воде, цепляется за каменные берега, и мы вплываем в наш подземный бункер, в темноту, и весла упираются в бетонные стены, и фата моя наматывается на весла, а течение всё быстрей и быстрей, и впереди провал, обрыв, и тьма тьмущая, ничего не видать. А он, Шишига, оборотень окаянный, хохочет и по мобильнику: «Прокачу! Пикачу!». Я вся мокрая, платье облепило – трусы и всё нижнее на виду.
- Какой бункер? Наш, что ли? Возле кладбища?
- Ну да.
Шишига общепризнанный шалопай, вроде еще один Иванов, коренной. Женщины поговаривали даже, что от Шишиги можно и забеременеть. Всех странных новорожденных на него списывали. «В кого? – не поймет, бывало, папаша младенца. - Да в Шишигу! - скажут. - А, - успокоится папаша. - Тогда другое дело. Ясен пень».
Катерина из-под прикрытых век посматривает на сестру. Про неё тоже поговаривали: в кого такая? Странная. На дойке с Мумукой по-французски миндальничает: «Мерси… Сильвупле»… Откуда? Новопреставленный Яков Павлович пересказывал дедовские байки, мол, в этих местах в 1812 году Наполеон куражился со своими солдатами. Может, оттуда. Недаром же Мумука понимает французский. На «сильвупле» куда надо, подвинется, хвостом по лицу хряснет – «пардон»! Извините, мол, больше не буду. Однако не всех убеждали исторические новеллы Якова Павловича. Да и сам он порой путался в сюжетных загогулинах. По его же собственным словам, еще до Наполеона тут топтался ордынский хан Токтомыш с бусурманами, с Мырзакунами, Тугельбаями, Абдрашитами. Тоже не брезговали, трамповали русских красавиц в зоне бикини. Опять же наш скуластый монгольский друг Чойбалсан. На одну русскую кровиночку семь нерусских.
Ну, и Шишига наводит тень на плетень. Варвара - царство подводное! – божилась, вот те крест! что сама слышала, как первого ноября, аккурат на Иванов день, за печкой Шишига выл басом: «От той волны морской в нас кровь-руда пошла. И мысли тайны от туманов»… Но Варваре не очень верили: баба, да еще молодая, двадцать три года. У них, у здешних баб Ивановых, хоть старых, хоть молодых, в мыслях тайных одни варяжские гости. За этим гостем, за русоволосым, голубоглазым Зигфридом, по своему женскому усмотрению, она и пошла к Водяному в одной белой рубахе, без трусов, без лифчика, утопла в его красивом царстве с зелеными водорослями, обросла в ожидании Зигфрида пышным русалочьим хвостом. А Ивановы, оставшиеся на суше, били себя в грудь: Ивановы мы! Вопреки и назло варягам, монголам, зырянам! Чистой воды, беспримесные арийцы… Нас поп Иван крестил своим именем за мзду соболями и жемчугом. До этого, до крещения, мы разные были. Но точно не варяги, не монголы, не зыряне какие-нибудь, не эрзя, не мокша. Русские мы. Первоначальные, посткатаклизменные. Как отступил Великий ледник к Океану, оставив на северах цепочки болот и озер с живородящей сапропелевой массой, залежи чудодейственного космического шунгита, гряды холмов, расщелины «камы» с песком и гравием, морены, с тех самых пор лежбища гранитных и базальтовых валунов ожили, подняли головы, и обратились в прямоходящих, первобытно-общинных Ивановых. Как говорится, от скал тех каменных у нас, у русских кости. Ну, и лбы само собой. Варяги позже понаехали.
Фрося сном своим взволновалась, две островерхие сахарные возвышенности с алыми тюльпанами на венцах вздымаются. Видно, как скучает мимишная грудь, после единственных родов не ставшая выменем. Муж, исполнив интернациональный долг, остался без вести пропавшим в недоступных Афганских горах. Родина-мать почем зря тратила Ивановых. Восемнадцатилетнего сына Фроси накрыло эхом близкой Кавказской войны. Подорвался на мине. То ли своей, то ли ихней, чеченской. Сына привезли в казенном гробу фрагментами тела. Слава богу, похоронили на своем кладбище, на Бездне. Катерина, насыщенная личной материнской жизнью, понимает нутром, жалеет младшенькую сестрёнку: неизрасходованная осталась. Ребенка недоласкала, мужу – не додала. Один глоток от молодости отпила, остальное вино бродит, превращается в уксус. Однажды, после похорон сына, застала Фросю в сарае. Она баюкала у груди березовое п
Сестра заинтересовалась пенисом брата и готова с ним развлекаться
Русская после душа раком в кровати трахает домашнего пацана и кончает на нем
Анальная оргия с пятью сучками разом