Безобразность безразличия
Дарья Кормановская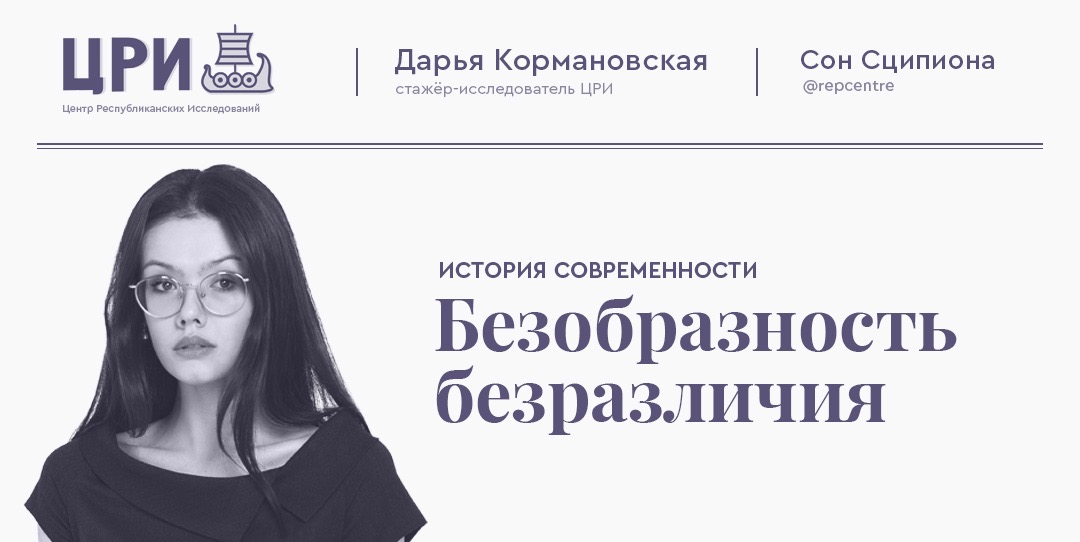
Недавно на Горьком вышла моя рецензия на книгу Роджера Скрутона «Красота», в которой он защищает тезис об объективной ценности прекрасного. Характерно, что в предуведомлении к тексту редакция сайта маркировала известного консерватора как «философа крайне правых взглядов». С одной стороны, казавшаяся ранее безусловной ценность защиты классической эстетики сегодня уже действительно может восприниматься как реакционность.
Поклонник античной скульптуры – поклонник рабовладения и культа силы, европоцентрист и угнетатель, так и не решившийся отринуть привилегии и подготовить сознание для главной процедуры последних десятилетий – деколонизации мышления. Как говорится, а знаете, кто ещё любил классику? [Увы, назло обоим «уклонам» и Маркс, и Гитлер]. С другой стороны, в моих глазах Скрутон – безусловно замечательный, но очень умеренно консервативный мыслитель, как в эстетическом, так и в политическом плане. Классический либерал, верящий в национальное государство, опирающийся в эстетических изысканиях на английских и немецких философов Просвещения, словом, автор – целиком из плоти и крови Нового времени. Странно обнаруживать себя в историческом моменте, в котором даже такие тактичные, мягкие, воспроизводящие зачастую общие места – а не какие-то подрывные идеи – мыслители воспринимаются как реакционеры. Сверх того, снятие Скрутона с поста председателя Комиссии по строительству нового жилья, где он по мере сил тормозил проекты модернистской архитектуры, вызвало у журналистов левых изданий какой-то неоправданно бурный ажиотаж, в честь его увольнения открывались бутылки шампанского! Неужели этот милый джентльмен действительно представляет какую-то серьёзную угрозу «прогрессу»?
Во введении к русскому изданию «Красоты», написанном богословом Олегом Давыдовым, современное искусство с убеждённой настойчивостью определяется как нечто (снова!) «радикальное», провокационное, разрывающее связи с традициями. Но какими традициями? Где все эти радикальные художники? В музыке уже давно нет ни Шёнберга, ни Стравинского, никто не уходит с середины премьеры в неистовом возмущении. С 2000-х годов не было создано ничего нового, напротив, мы находимся в очень уютном времени «ретромании», когда воспроизводится атмосфера и советской электроники, и постпанка, и японского нойза, и всего что сердцу мило. Музыкальные ансамбли всё чаще стремятся к «аутентичному» исполнению классики, а композиторы продолжают изящно экспериментировать с минималистским или ориенталистским звучанием разных инструментов. Где же эти нарушители общественного порядка? Какой-нибудь Павленский? Да публику гораздо больше занимало, что он оказался абьюзером и, страшно сказать, не профеминистичным человеком. Для искушённых людей все эти псевдо-радикальные жесты выглядят несвоевременными, да и трудно переплюнуть выходки Олега Мавроматти из 90-х, а для неискушённых, к счастью, подобного рода мазохизм так и не обрёл флёр художественности. Всегда горько это признавать, но признать необходимо: вся провокационная деятельность либо давно стала обыденностью, либо так и не стала чем-то большим, чем бессмысленные и вульгарные имитации и повторы.
Да и о каком радикализме может идти речь, когда на всякую человеческую подлость и слабость произносится императив «Normalize it». Нормализовать хотят либо то, что ещё осталось от табу, либо то, что всё ещё несправедливо ограничивает комфорт и возможность «самовыражения» обывателя: нормализовать, а значит сделать обыденностью, нужно вообще всё, от педофилии до мужского маникюра. Даже в праздной беседе обсуждать подобные вещи приходится с некоторой долей неприязни: всё это, в конечном счёте, либо дико, либо до тошноты скучно. Отнюдь не радикальным, но посредственным и серым хотят сделать, кажется, всё: и болезнь, и здоровье, и норму, и бунт против нормы. Похожее происходит и в сфере искусства: безопасное пространство галереи способно нормализовать и сделать мёртвым любой объект, любой жест, и что бы ни производилось – в действительности оно не претендует на статус чего-то небывалого и чудесного. Оригинальность как эстетическая категория и художественная стратегия воспроизводит себя так долго, что её копии копий давно не вызывают ничего, кроме зевоты.
Тем, кто всё ещё хочет привлечь внимание, необходимо возрадоваться, что существует репрессивное государство или закон об оскорблении чувств верующих: чудо, что хоть кого-то вы ещё способны оскорбить и взбудоражить. Только так ещё можно взять в краткосрочную аренду пластмассовый диссидентский веночек, который не был нужен ни Данте, изгнанному из города, ни Заболоцкому, которого пытали в одиночной камере. Взрывоопасный потенциал чего угодно довольно быстро и успешно может быть нейтрализован рынком и извлечением прибыли, может стать развлекательно-массовым или элитарным продуктом для ценителей и специалистов, но государство как репрессивная система, по крайней мере, на какое-то время даст вам почувствовать себя особенными и значимыми.
Совсем не хочется, чтобы бандиты наказывали идиотов за безвкусицу и дурное воспитание, но бандитизм первых никаким образом не нивелирует ничтожность артистических и политических замыслов вторых. Если же степень радикализма в искусстве измеряется количеством произведённого насилия и порнографии, то нет большого труда в том, чтобы вызывать аффекты у легко возбуждающейся публики. По старой памяти о революционном характере «театра жестокости» Антонена Арто все хотят произвести какую-то почти мистическую трансгрессию, как например носящийся со своей мнимой гениальностью Хржановский, но получается, увы, почти телевизионный по примитивности формальных приёмов трэш-продукт.
Публицистика в духе книжек Роджера Скрутона может быть действительно добрым введением в эстетическую и политическую мысль для тех, кто не считает современное положение дел здоровым и правильным, но лишь введением. Скрутон – радикал только для очень конкретных людей, обитающих в университетах, галереях и редакциях журналов, однако его книга о красоте хороший повод пойти дальше в поисках действительно радикальных идей.
Суждение вкуса
В чём мы точно согласны с Роджером Скрутоном, так это в том, что красота и уродство – существуют, и их необходимо различать, не боясь выносить осмысленное эстетическое суждение. За этим стоит не надуманная необходимость, так как вкусовой релятивизм современности является одним из механизмов усиления атомизированности замкнутых на себе индивидов, неспособных организовываться в сообщества.
Сегодня критиковать чужой вкус не только бессмысленно, но и зловредно. Утверждая, будто в жизни есть нечто объективно красивое, причём в большей или меньшей степени, вы задаёте миру вещей и явлений иерархию в совсем неподходящее для этого время, когда уничтожение остаточных форм иерархий – цель всякого образованного и порядочного человека, обнаруживающего в любой системе власти угрозу своей индивидуальной свободе. Ничто эстетическое не может претендовать на более высокий или даже более низкий статус, так как для этого необходим разделяемый всеми идеал, выраженный в конкретных образах, задающих признание канона, относительно которого все прочие вещи занимают свою нишу. Но всякий стандарт автоматически считывается как навязанный извне и подчиняющий себе всё, что ему не соответствует, да и вообще заставляет человека чувствовать себя неполноценным, что само по себе преступно.
Кроме того, спор о вкусах неизбежно становится чем-то большим, чем разговор о предпочтениях двух свободных людей. Спор обретает масштабы чуть ли не классовой борьбы, где принципиально важно, у кого больше привилегий, а значит и силы, кто сноб и ретроград, кто хочет удержать власть в дряхлеющих, трясущихся руках, мешая великому делу раскрепощения человечества. Так спор об эстетической ценности вещи перестаёт быть дискуссией о красоте, которая, само собой разумеется, «социальный конструкт» – он выплеснется за рамки конкретики к стихии социального и политического быстрее, чем зачинщик спора произнесёт слово «красота». А может быть спор не начнётся вовсе, потому что на прослушивание, скажем, блэк-металл группы уходит пять минут, так как ровно столько времени требуется, чтобы узнать, что музыканты разделяют «правые взгляды»; ровно столько же потребуется на просмотр фильмов Пазолини или Мидзогути, потому что гугл подскажет, что режиссёры были «левыми».
Какой вывод делает общественность, наблюдая малоприятное зрелище бесконечно сталкивающихся дискурсов? Общественность видит и в этих горизонтальных конфликтах зародыш насилия и нарушения личных границ – двух смертных грехов современности. То тут, то там раздаются эмоциональные призывы наиболее эмпатичных наблюдателей, они восклицают: Оставьте все друг друга в покое! Отстаньте друг от друга! Каждому нравится своё! Эта фраза обладает гипнотической силой, она нейтрализует любой конфликт, позволяя всему быть тем, чем ему хочется быть, снимая с человека бремя оценочного суждения. И все, наконец, вздыхают спокойно и больше не трогают друг друга, только по какой-то загадочной причине обнаруживают себя в ситуации, когда вокруг вообще-то мало привлекательных вещей, и заблаговременно откладывают деньги на поездку в условную Венецию. Следующий шаг – сказать себе: да я и сам тоже не лучше и не хуже других, я это просто я, а стандарты красоты и морали во все времена менялись, и вообще мы все прекрасны в своей непохожести друг на друга. Но деньги нужно будет отложить, пожалуй, не только на Венецию, но и на психолога.
За последние полвека был изобретён ещё один весьма успешный способ противостояния разного рода иерархиям: арт-критика, которая ничего не критикует. Кураторы и теоретики научились производить сотни текстов, говорящих об объектах так много, так щедро и такими умными и будто бы значимыми словами, успешно избегая непосредственно оценочных суждений. Абсолютно любой объект можно окутать вуалью многосложного говорения, не называя его красивым или уродливым, не привязывая его вообще ни к одной из эстетических категорий, не сравнивая его ни с чем. Вместо сравнений, потенциально всегда содержащих возможность для установления иерархии и реакционного ресентимента, мы научились проводить параллели и связи, беззаботно тасуя ассоциации, концепции и образы, якобы что-то сообщающие нам о мире и человеке. Даже в режиме нейтрального обмена мнениями почти никто не говорит: «это красиво» или «это уродливо», вероятнее всего, скажут «это интересно». «Интересное», занимательное, занятное и забавное – главная эстетическая категория нашего времени. Интерес – спонтанен, нас может заинтересовать и нечто прекрасное, и нечто отталкивающее, что-то, что привлекло внимание, но о чём нам трудно сказать больше, чем «занятно». Всё, что мы фиксируем и осознаём, – факт заинтересованности, который никого не обидит и ничего не возвысит.
В этой ценностной парадигме субъект, находящийся под гнётом идеалов, канонов, стандартов и авторитетов, как будто бы находит собственную субъектность поставленной под вопрос. Как будто разнообразие и право на жизнь для него возможны исключительно в горизонтальных отношениях. Но как только рыхлую землю уравненных в своей ценности вкусов начинает вспахивать плуг различия, в надежде, что из этой почвы может вырасти нечто значимое – людям мерещится, будто всё, что не окажется на вершине, трагическим образом аннигилируется, потеряв отношение равенства. Это не так.
Иерархия необходима в том числе для того, чтобы создать сложносочинённое и сложноорганизованное целое, состоящее из зависимых друг от друга, но не равных по степени красоты и значимости частей. В общественном здании или симфонии не каждая архитектурная часть и не каждый инструмент имеют одинаковую ценность. Колоссальный ордер довлеет над пространством, но он нуждается в малом, чтобы чувствовать себя уверенно без излишней напыщенности. Литавры в «Весне священной» Стравинского подают голос лишь однажды, но этот голос необходим. Церковь венчает холм средневекового города, задавая ему смысловой и визуальный центр, и всё вокруг действительно подчинено ей, всё блекнет в сравнении с ней. Но в этой вести нет ничего подавляющего в значении уничижительного. Окружающие церковь дома и их обитатели имеют причастность к чему-то, что выше них, что имеет власть одним лишь силуэтом на горизонте напоминать о перспективе восхождения, а не только о подчинённости.
Именно так красота воздействует – она не может оставлять нас безразличными и не делающими различений. Она требует подчинения, но подчинения добровольного и благодарного. Однако зачастую на сердце завистливого человека ложится тень ресентимента, подначивающая бороться за власть и стрелять – в людей и иконы. Или заявлять, что многочисленным святым Себастьянам в картинных галереях мира стоило бы принадлежать не белым, гетеросексуальным мужчинам, исповедующим христианство – прекрасное тело святого Себастьяна объявляется символом, а значит и областью интересов ЛГБТ-сообщества.
Итак, современность учит, что всё, что вы видите вокруг себя, не является ни хорошим, ни плохим, ни священным, ни профанным, всё попросту разное. И тогда совершенно неясно, где целесообразной будет похвала красоте, а не скепсис критической теории? Кажется, то немногое, что всё ещё остаётся доступным и ясным – похвала красоте спорта. Язык, описывающий происходящее на стадионах, аренах и рингах, всё ещё относится к реальности с доверием и восторгом, даёт возможность выражать адекватный, естественный эстетический опыт, определяет победителя и возносит ему похвалу.
Поэтому рубрика подкастов ЦРИ «Гильотина» так важна, и неодобрительные отзывы о ней вгоняют в недоумение и тоску. Именно здесь я всё ещё могу услышать человеческий язык, описывающий, в частности, эстетический опыт, выраженный ясными и простыми формулировками, которые создают самые неожиданные связи с миром, где ещё есть красочность, грация и агрессия в сложных и динамических сочетаниях. Возможно, нашим слушателям стоит прочитать замечательную книгу Ханса Ульриха Гумберта «Похвала красоте спорта» – её действительно можно назвать событием, радикально противостоящим интеллектуальному мейнстриму гуманитаристики. Но будьте осторожны, там есть главы про насилие и страдание.
Common Sense
Проблема «воспитания вкуса» и создания эстетического консенсуса стала одной из центральных в момент появления эстетики как отдельной области философии. И английская эмпирическая традиция, и французские энциклопедисты будут пытаться связать эстетическое чувство с чуть ли не математическими правилами, господствующей моралью, абстрактными идеями. Юм полагал, что если определить все закономерности, связанные с восприятием прекрасного, людей можно будет обучить некоему правильному вкусу. Схожий оптимизм разделял и Роджер Скрутон. По всей видимости, из любви к классицизму и человеческому разуму Скрутон пожелал не обратить внимание на то, что рациональные попытки раз и навсегда установить критерии хорошего вкуса приводили к угасанию красоты, содержание которой постепенно вымывалось, превращаясь в академические схемы и безжизненные шаблоны.
Когда Скрутон заговаривает о необходимости жить всем вместе в красивых городах и договариваться о том, что есть красота, слово «договор» в современном контексте звучит, по меньшей мере, странно. Палладио и Фра Анджелико исходили не из договорённости о вкусе, а из общего этоса, который складывался десятилетиями, производился внутри тесных сообществ. Из поколения в поколение люди перенимали то, что им оставляли в наследство мёртвые, и сохраняли полученное, чтобы передать ещё не родившимся членам сообщества. Самое обидное, что сам Скрутон хорошо знает об этой идее, он сам наследует её у Бёрка, сам горячо пишет о древних правах англичан, которые складывались не нормативно, не по договорённости интеллектуалов, не по распоряжению государственных служащих, не измерялись заранее ментальной линейкой, не высчитывались статистически, не были произволом номенклатуры.
И всё же Скрутон (а вместе с ним повальное большинство консерваторов) продолжает верить в институты Нового времени. Верить в современных граждан, которые будто уже завтра пойдут в специальную комиссию по благоустройству их города и договорятся о том, сколько окон должно быть на фасадах домов, подойдёт ли руст или достаточно панельной обшивки, стоит ли ориентироваться на псевдо-готику или всё-таки попробовать дать шанс идеям Луиса Салливана. Скрутон приводит в качестве успешных примеров законы о планировании, введённые в Париже XVIII века, Провансе и Хельсинках XIX века. Но законы тех времён – это не общественный консенсус, это законы, которые нужны там, где уже не работают обычаи, где нет никакого консенсуса, где даже форму зубцов на фасадах и вид черепицы приходится регламентировать сверху. К тому же, барон Осман расширял улицы Парижа не только для красоты, но и для упрочения механизмов власти, лишая людей возможности баррикадировать широкие проспекты.
Красота складывается как упорядоченное достижение смысла, когда люди далеко не одно поколение живут вместе, разделяют схожие ценности и нацелены на создание прекрасного из стремления к вещам, которые превышают каждого отдельного субъекта сообщества. Римляне не проснулись однажды с любовью к порядку, долговечности и свободе. Греки в течение веков шли к созданию Парфенона. В строительстве готических соборов участвовали целыми семьями. Флорентийцы не одно поколение читали Витрувия. Новгородцы и москвичи долго работали с приезжими мастерами византийского и поствизантийского миров.
Принципиально важно различие, которое впервые ввёл Фердинанд Тённис: противопоставление общества и сообществ. Современное общество не знает своих пределов и существует, с одной стороны, как абстракция, которая как будто имеет субъектность, с другой, работает как стихия индивидуального отчуждения, где никто никогда не создаст долговременной, устойчивой и узнаваемой традиции. Сеть близких отношений и регулярно осуществляемых практик, вроде посещения церкви, ручного труда, общих праздников, игр и соревнований, спорта, чтения определённого корпуса текстов – черты, отличающие сообщества, где в идеале должно отсутствовать такое понятие как «консерватизм». Охранять и находить доводы в пользу каких-то когнитивных и эстетических привычек внутри группы людей, которая живёт свободно, попросту нет смысла – эти привычки производятся на постоянной основе и воспринимаются людьми как здравый смысл.
Сегодня же предполагается, что художник не должен помогать обрести сообществам sensus communis, сегодня он должен быть критичен по отношению к сложившимся устойчивым практикам и конвенциям. Об этом писали, например, Делёз и Рансьер, настаивая на том, что создание новой эстетической ситуации способно «подвешивать» здравый смысл, тем самым усиливая и продлевая политические изменения с целью всё большего размытия установившихся границ, расширения инклюзивности. Жаль только, что художники, ставящие под вопрос истинность всего общественного, как правило, попросту воспроизводят sensus communis индустрии современного искусства, сопротивляясь, как правило, только одному: созданию сообщества, которое имеет границы, правила, запреты и идеалы.
Что нам остаётся, если мы не доверяем коллективам специалистов, если воля тех, кто оказывается у власти, почти всегда как будто случайна, и если вам повезёт – в городе появится сталинское метро, а если нет – лужковские чудовища? Если сами по себе мы склонны замыкаться на своих личных предпочтениях? По всей видимости, не остаётся ничего, кроме как предоставить решать «рыночку», что ценно, а что нет, делегировать ответственность выбора и суждения некой абстрактной массе потребителей и потокам капитала, как будто невидимая «монета» разрешает все конфликты и противоречия. Мы не можем взбунтоваться против того, что на вершине волны оказывается, к примеру, «Кролик» Джеффа Кунса, проданный за 90 млн долларов, ведь нашёлся дурак, купивший его. Это был его выбор распорядиться честно заработанным, а выбор принято уважать.
Странно в этом отношении выглядят либертарианцы, уповающие на свободный рынок, способный переварить, усвоить и извлечь прибыль из любой ниши, любой прихоти, любого объекта или символа. Молодые люди говорят, что у них нет «культурной повестки», но общая культура неизбежно складывается, и она тоже может быть красивой или уродливой. Юноши из-за какой-то искусственно взращиваемой в себе ненависти к «левакам» на глазах превращаются в капиталистов в цилиндрах, изображённых на карикатурах столетней, а то и больше, давности: напечатаем на футболке любой ваш девиз и извлечём прибыль! Только нынешний толстосум, по-видимому, непременно должен летать в космос и обладать коллекцией аниме-фигурок – вот предел его эстетических мечтаний. Впрочем, не менее странно выглядит националист, роняющий слёзы на имперскую архитектуру, почти никогда не построенную русскими для русских. А империя пускай даже на открыточных фотографиях Прокудина-Горского – это та Россия, до которой в XIX-м веке в силу чисто технических причин ещё не могла добраться муштра указов и предписаний. Все эти красивые ладные дома строили живые люди, без архитектурных компаний и государственных заказов. Вот что у нас есть: чиновники, музейщики, рынок и фандомы, и все они, кажется, способны создать разве что торгово-развлекательный центр, в больших или меньших масштабах.
Боюсь, что без нашего искупления и жажды служения вечно живому Богу, без сопротивления государствам, без веры в то, что люди ещё смогут свободно собираться вместе и направлять свои силы на создание городов, слава которых не будет меркнуть веками, боюсь, что визиты прекрасного будут всё более редкими. Людям, способным выбирать правду и красоту в противовес релятивизму и актуальности, будет всё труднее сопротивляться инертности материи. В попытке не то что защитить – защищать уже почти нечего – но, по крайней мере, отыскать и собрать воедино крупицы жизни и благородства, лучшим из нас придётся преодолевать только нарастающее равнодушие «по-разному интересных» людей.
Эталонным и авторитетным поведением становится отвращение к эталонам и авторитетам, и именно поэтому инфантильное отрицание перестаёт быть чем-то радикальным. Попробуйте ниспровергать слабохарактерных потомков когда-то яростных и бескомпромиссных ниспровергателей – это и будет революционным искусством, жестом сопротивления. Попробуйте отвоевать и вернуть на законное место красоту – на пьедестал, где соседствуют благо и истина. Где персонификация Софии заботливо кладёт руки на плечи Платону и Аристотелю. Попробуйте украсть Венеру из музея и вернуть её благородный, христианизированный, кроткий или полный внутреннего достоинства дух морскому берегу и своим домам. Попробуйте ощутить в своих руках силу и мощь сыновнего послушания Горациев. Захватите у неба краюшку света, чтобы возложить его на лоб раскаявшегося блудного сына. Возьмите копья у добродетельных дев из рук, прямо с фасада Страсбургского собора. Попробуйте найти в мире хоть какой-нибудь след улыбки ангела Реймса. В современной поэзии есть два примера, представляющих образ ангела Реймса не как нечто ушедшее, но как вечно требующее оживления:
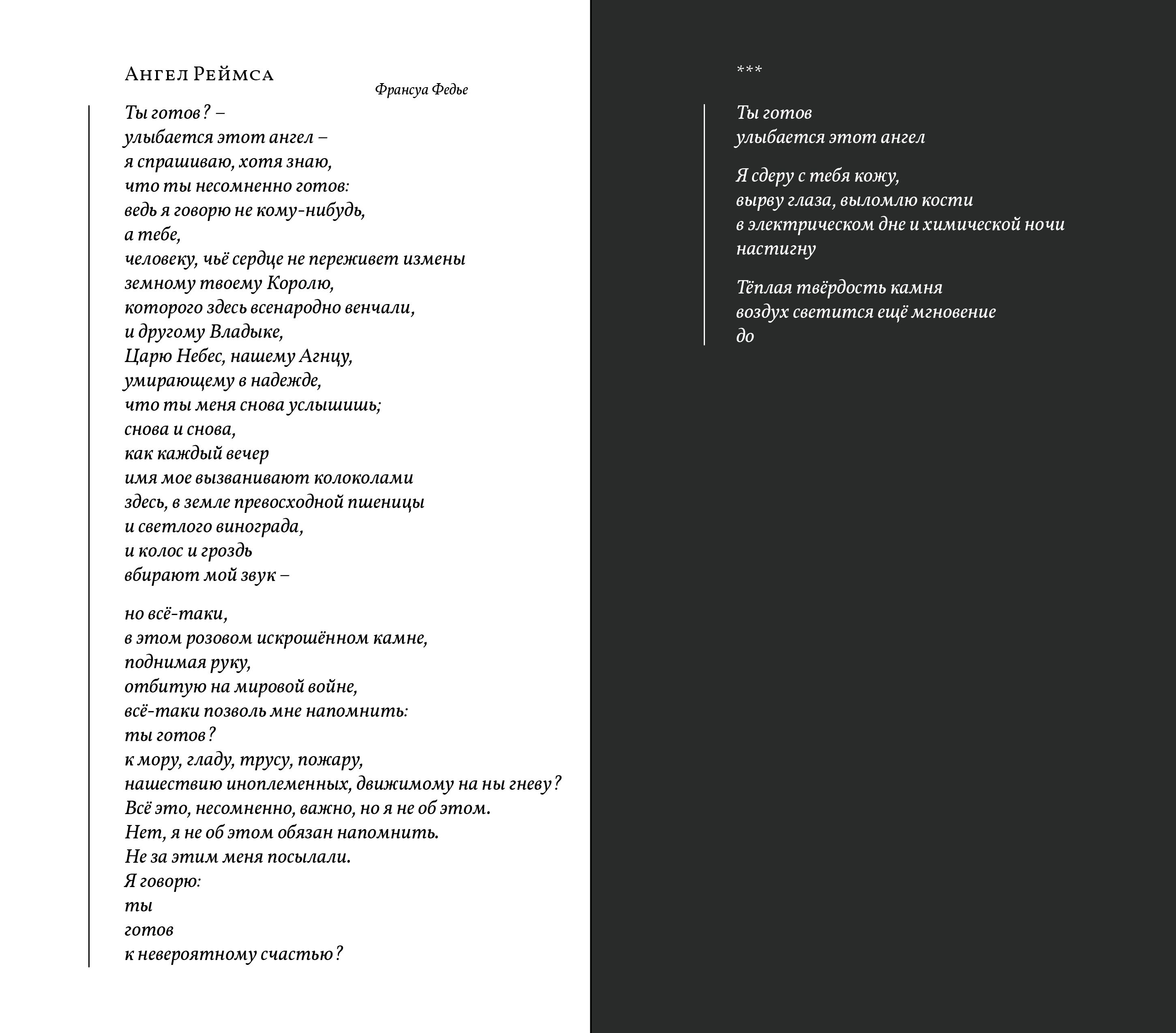
Первое написано Ольгой Седаковой, второе стихотворение – Дмитрия Шандры – безусловно вторично, но и оно раскрывает в камне жизнь и призыв быть готовым. В обоих случаях прекрасное требует от нас смелости; как ужас ночи земного мира, так и счастье Царства Небес, в конечном счёте, требуют от нас жертвы. И ангел Реймса улыбается вам недоброй ухмылкой – примите это как весть об Апокалипсисе и соучаствуйте огненным деяниям Илии Пророка, ищите, где взять этот факел.
