Батай Сексуальность
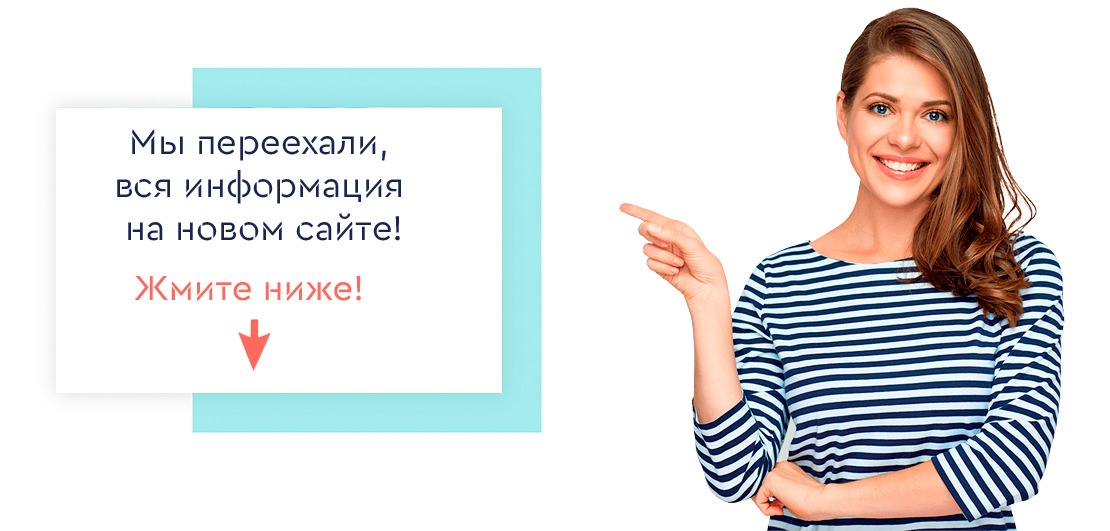
💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
теория и история
литературы, критика
и библиография
Нравственный закон Иммануила Канта и ритуал Жоржа Батая: варианты соотнесения
Максим Горюнов (МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет, аспирант)
Maxim Goryunov (Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philosophy, postgraduate student)
Ключевые слова: Кант, нравственный закон, Батай, ритуал, разум, аффект, выживание
Key words: Kant, moral law, Bataille, ritual, reason, affect, survival
Аннотация: Идея Канта о замещении ритуала моралью, как кажется, противоположна идее Батая: Кант требует отказаться от ритуала, чтобы освободить место для разума; Батай требует отказаться от разума, чтобы освободить место для ритуала. Вместе с тем и у отказа от разума, и у отказа от ритуала одна цель: переживание возвышенного аффекта, придающего человеческой жизни возвышенный смысл. Трансгрессия Батая и категорический императив Канта являются актами сознательного нарушения логики выживания. По мысли обоих философов, только нарушая логику выживания, человек получает право считать себя существом, превосходящим зверей. В момент осознания себя существом, превосходящим зверей, человек переживает возвышенный аффект, который является эмоциональным фундаментом для наиболее общих представлений о себе.
Abstract: Kant’s idea of replacing ritual with morality seems to be the opposite of Bataille’s idea: Kant demands to abandon ritual in order to create a space for reason; Bataille demands to give up reason in order to create a space for ritual. However, both the rejection of reason and the rejection of the ritual pursue a single goal: the experience of the sublime affect, which gives a sublime meaning to human existence. Bataille’s transgression and Kant’s categorical imperative are acts of conscious violation of the logic of survival. According to both philosophers, it is only through violation of the logic of survival that human beings get the right to consider themselves beings that transcend animals. At the moment of realizing oneself as a being that transcends animals, a person experiences an exalted affect, which is the emotional foundation for the most general ideas about oneself.
Maxim Goryunov. Immanuel Kant’s moral law and Georges Bataille’s ritual: Variants of correlation
У Канта в «Антропологии с прагматической точки зрения» описаны два параллельных ряда аффектов: свойственных человеку как живому существу и свойственых ему как живому существу, наделенному разумом. Благодаря разуму, считает Кант, человеку доступны дополнительные объекты, способные вызвать аффект — мощное эмоциональное переживание, на мгновение отменяющее разум [Кант 2002: 164]. Нравственный закон у нас внутри, звездное небо у нас над головой и тщеславие, которое есть и у зверя, вводят нас в состояние аффекта с равной силой, и это равенство есть невероятная удача, уверяет нас Кант. Благодаря ему у человека есть шанс реализоваться в качестве не-зверя. Если у Декарта разум один на один противостоит аффектам и вынужден прибегать к дрессуре [Декарт 1989: 504], то у Канта разум имеет поддержку со стороны аффектов, существование которых напрямую связано со способностью человека мыслить. Если воспользоваться основной метафорой, описывающей кантианское видение конфликта аффектов и разума, картина будет следующая: «чернь» (чувства, включая аффекты) подчиняется своему «природному начальнику» (разуму) не только потому, что она обязана ему подчиняться, но и потому, что увлечена им. Два ряда аффектов, представляют собой две партии. Первая подчиняется из страха; вторая подчиняется из увлеченности. Задача, которую должен решить кантианский «начальник», желающий безгранично расширять свою власть над «чернью», заключается в установлении власти партии аффектов, лояльных разуму и зависимых от него. Для Декарта в его «Страстях души» конфликт разума и аффектов выглядит куда жестче. Среди «черни» нет партии, которая подчинялась бы начальнику в силу увлечения. Цели, преследуемые начальником, настолько противоположны целям «черни», что подчинение исключает любые мотивы, кроме страха. Из этого утверждения очевидно следует картезианский вывод о том, что свободное и добросовестное увлечение чувств идеями разума, на котором настаивает Кант, невозможно и у этой невозможности есть фундаментальные причины, которые Кант обходит стороной. Вопрос, который мог бы задать Декарт, критикуя кантианскую модель, звучит следующим образом: как возможно сильное чувство, аффект в отношении объектов, доступных только разуму? Если мы говорим о чувствах, то они у человека, как сам Кант и указывает, вполне звериные и имеют непосредственное отношение к природе и выживанию в ней. Удивление, которое, согласно Аристотелю, является началом философии, с точки зрения Декарта, является стандартной реакцией на внезапность — одинаковой и у зверя, и у человека. С удивлением, как и с любым другим сильным чувством, следует бороться во имя спокойствия разума. При этом если мы говорим о морали в кантианском смысле — как о важнейшем объекте, доступном только разуму, — то она принципиально недоступна зверю. Стало быть, вопрос Декарта уточняется до следующего: как возможна природная, звериная реакция в отношении объекта, не имеющего отношения к природе и выживанию в ней? Декарт, однозначно разделявший мысль и материю, прямо говорит о ее невозможности и уточняет кантианскую метафору, описывая подчинение чувств разуму не как увлечение, а как перманентное покорение. Видение Канта относительно противостояния разума и чувств сложнее. У него нет онтологической пропасти между аффектом и разумом. Несмотря на свою уникальность, разум представляет собой неудачную замену инстинктам. Разум, инстинкт, аффект, зверь, человек — онтологически равны. Мораль безусловно, уникальна, но суть этой уникальности состоит в способности отрицать логику выживания. Ответ на претензии Декарта мог бы звучать следующим образом: мораль, как объект, доступный только разуму, способна вызывать аффективные переживания наравне с природными объектами в силу того, что онтологической пропасти, которую описывал Декарт, не существует.
Возвращаясь к вопросу об отношениях разума и чувств: в кантианской логике понятие о моральном действии и восхищение перед ним доступно человеку благодаря разуму. Вместе с тем, с точки зрения выживающего зверя, моральное действие является ошибкой [Кант 2007: 457]. В акте морального поступка человек уклоняется от выживания. Учитывая тот факт, что все живое обречено на выживание, это ошибка и шаг в сторону смерти. Кант предлагает нам увидеть в ошибке намек на нашу исключительность. Человек, выживая, постоянно ошибается, и в этой постоянности, уверяет нас Кант, мы можем разглядеть наше призвание. Ошибка говорит нам о том, что человек связан с природой не как зверь; у человека иное предназначение, более высокое, следование которому как раз и сообщает человеку специфически человеческое, то есть радикально не-звериное достоинство. Предназначение человека — мораль. В морали, в сознательной ошибке, допущенной человеком во имя своей человечности, реализуется стремление к свободе. Зверь реализует свое зверство в выживании, человек реализует человеческое в акте сознательного уклонения от выживания во имя свободы. Сознательно совершая моральный поступок, человек делает ошибку, и эта ошибка, даже сама мечта о ней, уверен Кант, свидетельствует и о нашей исключительности, нашей отдельности от остального живого. Самым ярким примером подобной ошибки является ошибка Иисуса Христа. С точки зрения Канта, восхитительность морального поступка напрямую зависит от размаха урона, нанесенного стремлению выжить. Если бы Иисус, как и всякое живое существо, руководствовался логикой выживания, он бы стал правителем и захватил весь мир. Богочеловек, захвативший мир, заслуживает восхищения, но это было бы восхищение в рамках логики выживания. Следуя Канту, оно находилось бы на максимальном удалении от категорического императива. Вместо власти Иисус выбирает путь проповеди и бескорыстного исцеления, отказывается защищать себя от преследования со стороны выживающих людей и в итоге оказывается на кресте. В соответствии с логикой Канта оказаться на кресте, имея возможность навсегда избавить себя от угрозы страданий и смерти, — это и есть та самая идеальная моральная ошибка. Всякое разумное существо, решившее до конца следовать своей разумности и стремлению к свободе, движется в направлении Голгофы. Важно уточнить, что приближение к Голгофе, а также страдания и мучительная смерть не являются целью сами по себе. В них есть смысл до тех пор, пока они являются признаками сознательного и бескорыстного следования требованиям категорического императива.
Согласно Канту, страх смерти в нас конкурирует со стремлением к морали как к высшей форме свободы. Мы хотели бы быть моральными, то есть совершать поступки, как будто мы бессмертны и неуязвимы. Другими словами, мы хотели бы быть свободными в своих действиях, подобно авраамическому Богу. В онтологии Фомы Аквинского существует благой Бог, независимый ни от кого. Будучи благим и полным любви, Бог из ничего создает вселенную. Вселенная существует потому, что Бог хочет, чтобы она существовала. В его силах прекратить существование вселенной, вернуть ее в ничто. Степень свободы от требований природы, которую подразумевает кантианское видение морали, сопоставима с божественной, как у Фомы. Для Канта речь идет о наиболее фундаментальном стремлении человека. Уже первый крик новорожденного свидетельствует о жажде свободы и одновременно свидетельствует и о жажде божественности. И в этом смысле кантианское уподобление Богу в акте морального действия, переведенное на язык восточного христианства, может быть интерпретировано как «обожение» — единение с божеством.
Связь предназначения человека со свободой позволяет по-новому взглянуть на описанный Кантом возвышенный аффект, возникающий уже от знакомства с примером морального поступка. Созерцая моральный поступок, человек мечтает вести себя так же свободно, как и Бог. В акте морального поступка он видит явление Бога в себе, что очень близко пониманию «обожения» у восточных христианских мистиков. Отличие христианской мистики, переполненной описаниями аффективных переживаний, связанных с приближением к Богу, от предложенной Кантом заключается в том, что философ обходит стороной вопрос о том, есть ли Бог или его нет. Есть возвышенный аффект, наполняющий нас священным трепетом. Есть разум, благодаря которому возвышенный аффект и трепет стали возможны. Учитывая глубину и мощь переживаний и их схожесть с тем, о чем пишут мистики, мы можем вынести фигуру Бога за скобки. В конечном итоге его может и не быть, но возвышенный аффект в силу специфики устройства человека останется на своем месте. Человек является частью природы, его положение ничем не отличается от положения зверя. Как зверь, живущий среди зверей, человек должен выживать, и отказ от выживания ведет только к смерти. При этом, как утверждает Кант, человек, в силу того что у него нет инстинктов, гарантирующих выживание, вынужден довольствоваться разумом, регулярно ошибающимся. Пока человек остается разумным ошибающимся зверем, ничего не изменится и мораль, как и тщеславие, будет его аффектировать.
Кантианская теория морального поступка также во многом совпадает с христианской теорией чуда. У Канта предназначение человека реализуется в момент осознанного нарушения логики выживания. Безумие и невероятность сознательного нарушения правил выживания, диктуемых картезианским здравым смыслом, как нетрудно заметить, совпадает с христианским представлением о чуде как о божественном вмешательстве в естественный ход вещей. Чудо нарушает логику, заключенную в законах природы. Чудо — уникальное единичное событие, которое, указав на Бога, исчезает, предоставляя природу в распоряжение законов. То же касается и морального поступка: утверждение Канта о том, что поступок, мотивированный категорическим императивом, — это событие, примера которому не было в истории, следует той же логике. Моральный поступок как чудо, как событие, указующее на явление божественного, присутствует и у философа, и у богословов. Разница, повторюсь, в том, что Кант аккуратно исключает фигуру Бога. Согласно ему, положение человека во вселенной таково, что для появления аффекта, равного по силе описанному мистиками, достаточно осознать, насколько опасно стремление к свободе, заложенное в нас.
Стало быть, представление о Боге, доступное нам из рассуждений о категорическом императиве, можно уточнить до следующего: человек, мечтая о моральном поступке, мечтает о степени свободы, равной божественной. Бурный аффект, сопровождающий моральное действие, даже когда о нем просто говорят, равен — если не идентичен — предельным переживаниям мистиков. С точки зрения Канта, чтобы прикоснуться к божественному, следует или совершить моральный поступок, или стать его свидетелем. Возникающие при этом аффекты ни в коем случае не слабее аффектов, свойственных всем живым существам вообще. Переживание морали не уступает по своей интенсивности переживанию страха и гордости. Кроме равноценной интенсивности, уже достаточной для того, чтобы обосновать отказ от участия в традиционных ритуалах, переход на сторону аффектов, связанных с разумом, позволяет человеку исполнить свое предназначение, которое, как уже было указано, состоит в следовании морали.
Как мы видим, переход к разумным аффектам является скорее не революционным ходом, а коррекционным. Благодаря ему архитектура эмоций в диапазоне от слабейших до предельных остается прежней. Кант не умертвляет чувства, не покушается на их архитектуру. Иерархия эмоций, которую Кант обнаруживал у религиозного человека, была не случайностью, обусловленной культурой, а закономерностью, обусловленной антропологией. Человек устроен таким образом, что аффективные переживания для него неизбежны. Предлагаемая Кантом корректировка состоит в следующем: раз уж аффект неизбежен, то пусть он будет союзником разума, а не противником. Пусть мораль как источник аффектов заменит нам наши тщеславие и гнев, станет источником подлинно возвышенных и подлинно человеческих поступков. Аффекты, связанные с религиозным ритуалом, поскольку они происходят не из разума, а из чувств, не являются человеческими и должны быть исключены, что логично. Кант предлагает отделить разумные аффекты от чувственных, как зерна от плевел, ни в коем случае не покушаясь на аффекты как таковые.
Батай был согласен с общим просвещенческим тезисом о том, что человек выделен из природы и не способен находиться в ней в роли животного, «как вода в воде» [Батай 2006: 58–59]. Он согласен и с тем, что разум не равноценен инстинкту. При этом, в отличие от Канта, Батай не видит в слабости разума намека на иное предназначение, возвышающее человека над природой. Он не считает, что человек, получив в свое распоряжение разум, вместе с ним получил достойную стремления цель. Разум как несовершенная замена инстинкта просто усложняет выживание. Человек выживает, как и остальное живое, но у него нет инстинктов, автоматически приводящих к общей для всего живого цели. Ему сложнее, чем остальным зверям, и на этом отличия завершаются.
В трактовке Батая благодаря разуму человек изъят из природы и страдает от этого [Батай 1997: 168–169]. Человек ищет дорогу обратно, желая снова стать частью природы, «водой в воде», как и всякое живое. Ищет при помощи разума, то есть, другими словами, разум ищет пути отмены себя, хотя бы временной. В логике Батая, отмена никогда не бывает окончательной, как и ослабление контроля, на котором настаивал Фрейд. Из этого поиска пути обратно в лоно природы — надо заметить, абсолютно терапевтического — и происходят религия и ритуал, в которых, по мысли Батая, разум обрел средство самоотрицания. Разуму нужен ритуал, чтобы на время избавиться от самого себя и вернуться в блаженное природное состояние, в котором человек пребывал до того, как стал человеком.
Видя в ритуалах способ достижения этого блаженного состояния, Батай оценивает их в зависимости от силы, с которой они отрицают разум, и приходит к выводу, что наиболее сильными являются первобытные ритуалы, а наиболее слабыми — ритуалы, используемые в современном ему христианском мире [Батай 2006: 246]. Следовательно, человек, желающий истинного блаженства, должен прибегать к первым и избегать вторых. Батай связывает первобытность с предельной чувственной экзальтацией, с нарушением табу и трансгрессивным переходом границ, установленных обществом. В последнем случае он очевидно следует за мыслью Фрейда, указывая на зависимость интенсивности переживания от дистанции: чем ближе к нарушению запрета, тем интенсивней переживание. Табу в данном случае производно от разума: если бы не было разума, не было бы и табу, как их нет у зверей, живущих инстинктами. Атакуя табу, человек атакует разум. Преодолевая табу, оказываясь по ту сторону рационального самосбережения, продиктованного себялюбием, человек ведет себя неразумно. Ритуальное нарушение запрета поражает разум, аффектирует его, тем самым позволяя человеку в кратчайший миг аффекта ощутить себя каплей воды в воде, окунуться с головой в природное блаженство.
Очевидно, что Кант двигался в противоположном направлении: он отказывался от ритуала и выступал против первобытных оргий, превращающих людей в зверей, считая, что истинное призвание человека связано со следованием морали. Опять же, кантианский нравственный закон и его строгость в переводе на язык Батая совпадают с логикой табу. При близком рассмотрении категорический императив радикально противоположен табу. В фундаменте табу лежит экономическая и политическая логика, нацеленная на сбережение жизни. Нет никаких сомнений в том, что урон, наносимый человеку табу, огромен, и неврозы, описанные Фрейдом, свидетельствуют об этом. С другой стороны, следует понимать, что в случае с табу речь идет о малом уроне, наносимом для того, чтобы избежать смертельного урона. Урон табу — это сберегающий урон, нанесенный себе во имя себялюбия. Если вспомнить, насколько щепетилен был Кант в вопросе выбора мотивации для нравственного поступка, станет очевидно, насколько логика табу не совпадает с логикой категорического императива. С точки зрения философа, табу не хватает бескорыстности. Существование табу обусловлено природой, оно является решением задачи выживания для существа, чье сексуальное влечение не ограничено жесткими рамками инстинкта. Категорический императив, в свою очередь, идет наперекор логике выживания. Если бы Кант допускал существование шкалы моральности, она возрастала бы по мере удаления от логики выживания. Уважение к морали, которое, с его точки зрения, настолько ценно, что превосходит любые остальные разумные аффекты, включая изумление, переполнено радостью освобождения от давления со стороны этой логики. Часто упоминаемое звездное небо и восхищение им в связке с категорическим императивом отсылают к свободе. Можно ли сравнить степень запрета, присвоенную Фрейдом табу, со звездным небом? Восхитительность внутреннего нравственного закона, о которой пишет Кант, противопоставлена запрету. Как бы парадоксально это ни звуча
Оргазмы В Первый Триместр Беременности
Порно Фото Чиччолина
Титьки Негретянок
Поза Наездницы В Кресле
Откровенные Фото Кати Гордон
Диссертация на тему «Тема эротизма в философии Ж. Ба…
Регулирующая роль сексуальности в социокульту…
Нравственный закон Иммануила Канта и ритуал Ж…
Спаси и сохрани – КиноПоиск
«Эротизм» как превращенная форма антропного феномена …
Смерть и сексуальность -... (Цитата из книги «Проклятая ...
Жорж Батай: сакральное и непрерывность
Постмодернистская телесность, или концепт тел…
Оксана Тимофеева рассказывает о своей книге "…
Секс - PSYCHOLOGIES
Батай Сексуальность











