"БРАТСКИЙ ВЕСТНИК"
ЖУРНАЛ "БРАТСКИЙ ВЕСТНИК"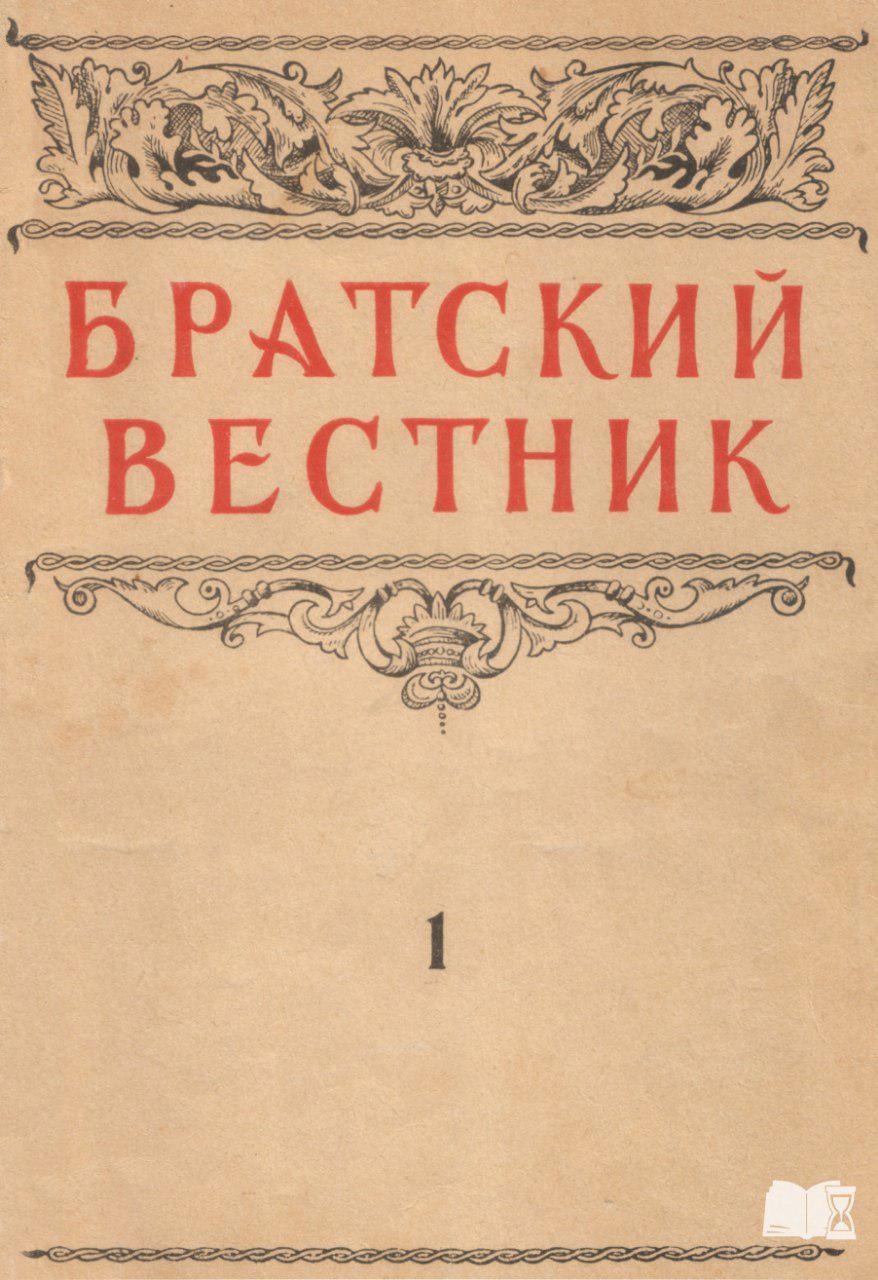
...⇓...
Призвание Апостола Павла
Во время двухнедельного пребывания в Иерусалиме Павел не только проводил время в беседах с Петром. Он побывал в разных местах города. Он пытался также говорить со знакомыми и проповедовать. Он не мог молчать о внутреннем перевороте в нем. Он думал, что то, что так чудесно убедило его, должно было убедить и других. Но тут он потерпел неудачу: его никто не желал слушать. Каждое его выступление было поводом к уличным беспорядкам. На каждое слово его в ответ летели камни или сыпалась брань. Неудача его здесь была даже более полной, чем в Дамаске.
Он был глубоко огорчен этим. Он сам говорит впоследствии, как ходил тогда молиться в храм и как Богу доверял свое горе о том, что его свидетельства не принимали: «Я сказал: Господи! им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его (Деян. Апост. 22, 19-20). Павел видел, что потерпел неудачу. Можно думать, что и Петр и Варнава подтвердили ему то же. И они были того мнения, что деятельность Павлу не приносила пользы делу, а только создавала шумиху. Когда же жизни его стала угрожать опасность, братья отправили его в Кесарию. Из этого города отплывало много кораблей в Тарс. На одном из них Павел прибыл в свой родной город.
Я спрашиваю себя, почему Павел направился именно туда? Если бы можно было предположить, что настроение в семье его стало к нему, дружественнее или что даже некоторые члены ее обратились в христианство, то было бы понятно видеть человека, надорванного и усталого от борьбы, желающим отдохнуть дома, среди близких ему людей, ищущим утешения у матери и успокоения напряженных нервов. Ведь никто в жизни не умеет утешить нас в горе так, как любящая мать. Но к сожалению у нас нет нигде в Писании хотя бы намека, подтверждающего указанное предположение о том, что Павел нашел в Тарсе близких, сочувствующих ему. Савл на всю жизнь остался одиноким. Иисус был Другом его и Он заменял ему с избытком всех родных и близких.
Один писатель объясняет прибытие его в Тарс тем, что он как раз тогда потерпел одно из тех трех кораблекрушений, о которых он упоминает в Послании к Коринфянам и что он вынужден был причалить и высадиться в Тарсе. Это предположение малоправдоподобно: ведь в таком случае он мог бы не оставаться в родном городе и вскоре же из него уехать, а он пробыл там два года.
Двадцать лет тому назад он покинул Тарс, чтобы поступить в школу в Иерусалиме. Не весело должно было быть на его душе, когда он двадцать лет спустя вернулся в дом, где он провел свое детство. За такой срок ведь многие умирают, многие стареют и забывают прежнее знакомство; они тем легче не узнают вас, если вы, как это случилось с Павлом, возвращаетесь после пережитых неудач с позорной славой вероотступника. Ему подходил сороковой год, он отстал от прежней жизни. В знакомых стенах он увидел новые лица и незнакомые ему дети толпились на пристанях и перекликались с рабочими, сплавляющими лес, точь-в-точь как это было в его молодые годы.
Каким одиноким должен был чувствовать себя Павел! Такое состояние повергает в сознание наступающей старости. Весьма вероятно, что он и здесь попробовал проповедывать о Христе и, весьма вероятно, опять без успеха. Пословица о пророке в своей стране тем более применима в данном случае, когда пророк - человек, которого и так не любят. Время, которое пришлось Павлу прожить в Тарсе, было временем тяжелого испытания для него. Но это была школа жизни, в которой Господь подготовлял его на служение Себе. Читая жизнеописания великих людей, мы видим, что Бог самых выдающихся служителей Своих подготовляет, ведя их через времена неудач, одиночества, разочарования и скорби.
Нам на время приходится оставить Павла в Тарсе. Он - в доме, где жил ребенком. Но он там одинок, погружен в мысли, перебирая прошлое, забытый людьми, полон раскаяния, недоумевая о том, возможно ли, чтобы грехи прошлой жизни могли навсегда быть препятствием, не позволяющим ему прославлять Спасителя свидетельством о Нем.
Пред нами новая картина. В ней не участвует Павел. Мы находимся в роскошной обстановке Антиохии Сирийской - города, известного в языческом мире. Рассказ о жизни Павла приводит нас всегда в города и в толпы народа. Мы уже видели его в Тарсе, Иерусалиме, Дамаске. Теперь вы вступаем в город обширнее их, имевший еще большее значение в жизни Павла и церкви, чем они. После Иерусалима Антиохия стала второй матерью церкви и сделалась вскоре средоточием христианства из бывших язычников. Она на двадцать лет стала исходным пунктом деятельности Павла. Ученики в первый раз в Антиохии стали называться христианами (Деян. Алост. 11, 26). В виду такого значения Антиохии, постараемся вызвать перед нашими очами вид этого города, чтобы каждый раз, когда нам придется упоминать о нем мы были в состоянии ясно представить себе его вид и расположение.
Начнем с внешнего его описания. Представим себе в мыслях северовосточный угол Средиземного моря и берег Палестины, образующие в Малой Азии прямой угол. В этом месте расположена Антиохия на берегу реки Оронта. Город этот находился в сношениях со всеми важными населенными местностями тогдашнего мира, поэтому он представлял идеальнейшую базу для деятельности церкви, распространявшей свое учение среди язычников. В течение двадцати лет, каждый раз, когда Павлу с палубы корабля, везущего его, открывался вид на указанный угол, вдающийся в побережье, он знал, что он возвращался домой. Причалив к гавани Антиохии, Селевкии, пред ним расстилалась дорога, по которой он направлялся домой. Она вела через чудные пальмовые рощи и сады, где росли деревья - мирты и оливы, где цвели пышные цветы. Затем ему открывался величественный вид царицы Востока, третьей столицы тогдашнего мира, города, ставшего для Павла как бы родным. Трудно сразу объять взором любой город во всех его подробностях. Когда я представляю себе таковой, я главным образом вспоминаю известные площади, улицы его и выдающиеся здания. Когда житель Антиохии восстанавливал в своей памяти вид родного города, он прежде всего представлял себе чудную главную улицу его - Восьмиверстную улицу, вдоль которой, по обеим сторонам, тянулись каменные высокие столбы, подобно колоннам Казанского собора в Ленинграде. Мостовая здесь состояла из больших беломраморных плит. Роскошные дома и дворцы, расположенные по сторонам, утопали в пышных садах. Под крытыми навесами, поддерживаемыми колоннами, купцы предлагали богатые товары и пестрая толпа теснилась вокруг их. А над всем этим, высоко на горе, маячила над городом высеченная в скале статуя чудовищных размеров. Это было изображение Зевса, бога язычников, хранителя города. Он стоял там, все его могли постоянно видеть и чувствовали, что город был городом языческой веры и боги язычников не уступят его другому Богу.
Так как, читатели, вы не в состоянии объять картину всего города, то ограничимся видом одной этой главной улицы колонн, переулков, пересекающих ее, и возвышающимся над ней изображением Зевса.
Жители Антиохии были людьми своего века. Среди них были греки, потерявшие веру в красивых богов их отечества, римляне, пресыщенные и погрязшие в страстях плоти и в спеси власти, евреи, стоявшие в стороне от других, в гордом сознании того, что они будто бы единственный возлюбленный Богом всемогущим, предпочтенный всем остальным, народ в мире. Еврейская вера поэтому не имела никакого действительного влияния на население города. Единственное из верований, которое еще отчасти влияло на него, было поклонение древним божествам, символам жестокости и плотской страсти. Кто бы мог не видеть тогда, что гордый город Антиохия алчущей душой ожидал откровения благой вести о Христе Иисусе?!
Как проникло христианство в Антиохию?
Когда разразились преследования, вызванные выступлением Стефана, гонимые последователи Христа, скрываясь, дошли и до Антиохии и, как сказано в Деянии Апостолов (11, 19), проповедывали Слово только иудеям. Обратите внимание на слова не проповедуя Слова, кроме иудеев. В них скрывается осложнение, к которому придется еще вернуться. Но течение жизни не могло быть втиснуто в столь узкие рамки. Язычники жаждали услышать благую весть, а в Антиохию прибыли ученики из Кипра и Киренеи, которые не придерживались узких косных убеждений иерусалимских евреев, сторонившихся язычников. Они попытались благовествовать о Христе и среди идолопоклонников.
Последствия их проповеди были ошеломляющие: толпы народа стали приходить на собрания, великое число, уверовав, обратилось к Господу (Деян. Апост. 11, 21). Из-за этого среди братьев возникли жгучий вопрос и разномыслие, от которых впоследствии до оснований потрясена была церковь. Мог ли Израиль утратить унаследованную славу избранного народа и в церкви Мессии быть поглощен другими народностями? Возможно ли допустить причисление необрезанных язычников к церкви, наравне с народом Божиим? Не следует ли от них предварительно потребовать исполнения всех обрядов моисеевого закона и обрезания? Не лучше ли было бы поставить им условие: сначала быть принятыми в члены одной из еврейских общин?
Чтобы, понимать проповедь и учение Павла, нам следует постоянно иметь в виду это настроение христиан из евреев. Известия об обращениях в Антиохии дошли до глав церкви в Иерусалиме. Они уже имели случай обсуждать эти вопросы. Апостол Петр, несмотря на закоренелые убеждения свои, был принужден крестить сотника Корнилия, подчиняясь ясному указанию воли Господа. Дар Святого Духа снизошел на Корнилия и его домочадцев. Однако христианские общины в Иерусалиме немедленно восстали против такого крещения, сообщив о нем собранию Апостолов. На этом собрании Петр изложил все происшествие и, защищая свой поступок, сказал: Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? (11, 17). Апостолы и братья слушали его, дивясь Божьему провидению. Их предубеждения против общения с язычниками были не менее сильны, чем у тех, которые подняли вопрос, но выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь (11, 18). Видимо, им впервые в жизни явилась такая мысль.
Через некоторое время после этого пришли известия об обращениях в Антиохии, и они решили послать туда лицо, которому доверяли, чтобы разобрать этот вопрос. Для этого избрали Иосия Варнаву. Вы помните того Варнаву, который познакомил Савла с Апостолами, когда они не желали видеться с ним? Здесь напрашивается вывод, что вероятно Варнава был когда-то другом Савла или товарищем его по школе. Варнава в последующем рассказе будет часто упоминаться. В жизни Павла он занимает выдающееся место, поэтому не будет лишним остановиться на этой личности немного дольше.
Я себе его представляю совершеннейшей противоположностью в сравнении с его другом. Варнава с внешней стороны - внушительная личность. Высокий, стройный, широкоплечий и красивый мужчина, с смотрящими честно и открыто на вас глазами, он подходит под ту характеристику, которую мы выражаем словами симпатичный человек. К такому человеку с первого взгляда каждый чувствует расположение и доверие. Он, видимо, был светлой личностью, с которой приятно вести знакомство, - прямолинейный в суждениях человек и, что главное, глубоко проникнутый истинной, действительной верой во Христа. Это как раз такой друг, в котором нуждался Павел. Отдельные намеки, из которых мы в состоянии составить себе понятие о нем, находятся разбросанными в книге Деяний Апостолов. Сопоставляя их, мы можем представить себе его образ. Мы, например, находим, что однажды в Ликаонской стране, обитатели ее, дикие горцы, приняли его и Павла за богов. Они Варнаву назвали Юпитером, бывшего степенным, осанистым родоначальником богов; в Павле признали бога Меркурия, быстрого в движениях, малорослого и красноречивого посла Олимпа. Эта картина сразу дает нам изображение обоих друзей.
О характере Варнавы мы читаем в рассказе о движении в первые времена церкви, когда в порыве подъема и воодушевления, все новообращенные, богатые и бедные, сложили свои средства и имели все общее. Варнава тоже участвовал в этом движении. Он продал свое имение и принес вырученную сумму денег Апостолам и сложил ее к ногам их на пользу бедным. Только человек восторженный, с порывами щедрости способен на такой поступок. Далее я по Писанию отмечаю, что Варнава должен был быть очень кроткого, приветливого характера, так как Апостолы дали ему прозвище Варнава, что значит сын утешения (Деян. Апост. 4, 36). Евангелист Лука называет его мужем добрым и исполненным Духа Святого и веры (Деян. Апост. 11, 24).
Варнава прибыл в Антиохию и посетил главную улицу. Он также видел великую статую Зевса. Но его более привлекал Скромный переулок, пересекающий проспект с колоннами, на котором находилось место собрания христиан. По преданиям древней церкви, этот переулок носил название улицы Сигон. Я дальше читаю в Писании: Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался, и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем (Деян. Апост. 11, 23). Он, видимо, не входил в обсуждение жгучего вопроса, волновавшего тогда братьев, не велел им принять обрезание, или стать евреями в обрядах. Он был простым человеком, но тем не менее обратил внимание на главную суть веры. Держитесь Господа искренним сердцем - вот его слова. В них заключалось исповедание и проявление его веры. Но споры этим не прекратились. Поднятый вопрос оставался неразрешенным. Варнава вероятно почувствовал, что его знания и способности не могут осилить этого вопроса, что он не по плечу ему. Зато ему был известен человек, который в состоянии был пролить на него свет и разобраться в нем. В Варнаве не было следов завистливости. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, нашед его, привел в Антиохию (Деян. Апост. 11, 25). Однажды Савл, еще полный смятения и нерешительности, встретил своего друга а улице. Мы можем представить себе эту встречу. Савл в тебе нуждаются, пойдем вместе обратно, в Антиохию.
Час Савла настал. Он был готов к возложенному на него Богом подвигу. Он нашел путь к призванию жизни своей.
Прошел год. Мы переносимся в собрание христиан в Антиохии. Они пришли все в дом на улице Сигон со всеми своими пресвитерами. Они назначили особенное молитвенное бдение, они приготовились в посте испросить указаний Святого Духа на особое предложение. Сказано, что они служили Господу и постились (Деян. Апост. 13, 2). Греческое слово служили Господу то же самое, от которого мы заимствуем наше выражение преломление хлеба. Мы здесь не будем вдаваться в подробное исследование. Я только вывожу из этого стиха то, что вероятно на этом собрании было и преломление хлеба.
Для какой же цели было созвано такое торжественное собрание?
В течение истекшего года Савл и Варнава проповедывали в городе. Писание нам говорит, что целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей (Деян. Апост. 11, 26). Вероятно этот год был для смущенного предыдущими неудачами Савла, временем радостного, спокойного труда. Кажется, что работа его была успешна, так как мы к концу года насчитываем в Антиохии пять выдающихся пресвитеров.
После девятнадцати столетий христианства, мы теперь вряд ли в состоянии учесть, чем была для людей того века вера во Христа, когда проповедь ее раздалась впервые. Ныне она для нас - известный всем рассказ. Для первых христиан это было откровение, откровение, полное вести радости и надежды. Мы веруем в пришествие Сына Божия! Мы веруем в прощение грехов, в воскресение из мертвых и в будущую жизнь! Мы веруем в Духа Святого, дающего жизнь! И казалось, в течение года росло сознание, что благую весть они должны распространять повсюду. Ныне день благоприятный, мы обрели мир. Но весь мир вокруг нас погружен во мрак и беспомощен в грехах, как и мы были год тому назад. Мы обязаны идти и всем понести весть о спасении людей. Христиане Антиохии были убеждены, что это веление Божие и вот они собрались, чтобы ждать дальнейших указаний Святого Духа, кого послать в мир?
Обратите внимание на собравшихся и их пятерых руководителей. Три из последних - белолицые жители Малой Азии, а два - чернокожии сыны Африки: Варнава, Луций Киренеянин, Симеон, называемый Нигер, что значит черный, Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и наконец Савл. Мне приятно представлять себе этот кружок сподвижников. Первый из них, Варнава, высокий, широкоплечий Варнава, темный Луций из Киренеи, города в Африке, затем Симеон, называемый Нигером или негром. Но он был не из тех негров, которых мы обычно представляем себе, а из живущих вдоль побережья Средиземного моря племен, стройных и красивых людей. Был ли он также, как Луций, родом из Киренеи? А название Симона Киринеянина, дорого нам по рассказу о распятии (Луки 23, 26). Может быть пресвитер в Антиохии был тот Симон, который нес крест Спасителя по дороге на Голгофу? Мне кажется, что такое совпадение возможно, хотя я нигде не встречал такого предположения и основано оно только на соображении, которое я привел выше. Если оно верно, то, конечно, легко представить себе, каким образом он познал веру Христову. За ним следует совоспитанник четвертовластника Ирода, сын его кормилицы. И это совпадение наводит нас на размышление. Одной грудью вскормлены два мальчика. Один из них вырос и стал проповедником Слова о Христе, а другой - жестоким тираном, прелюбодейцем и убийцей. К указанным братьям присоедините Савла из Тарса, ученика Гамалиила, и вы убедитесь в том, что здесь был собран кружок выдающихся людей.
Приходилось решать, кого из них послать миссионерами к язычникам? Чернокожих или белолицых? Без сомнения, они в собрании просили между ними жребий, как при избрании Матфия в Иерусалиме. Они также, как тогда сделали Апостолы, просили молитвенно указаний Святого Духа. Я так понимаю смысл слов: Дух Святой сказал: Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их (Деян. Апост. 13, 2).
Варнаву и Савла! Правда, братья молились о наставлении Святого Духа, о, мне думается, они вряд ли были довольны этим ответом свыше. Лишиться любимого всеми Варнавы, блестящего проповедника Савла - как раз лучших вождей церкви антиохийской? Должна ли она оставаться без них в столь трудное время? Тем не менее, собравшаяся в Антиохии церковь немедленно и безропотно подчинилась решению Святого Духа. Возложивши руки на благовестников, избранных Богом, с любовью отпустили их. Оба друга отправились в тяжелый, опасный путь, длившийся три года.
В Антиохии осталось три пресвитера. Но церковь росла и распространялась. Следующие слова доказывают этот рост: и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Это наименование, составляющее ныне нашу честь, впервые появилось на устах людей в тот знаменательный год, о котором мы рассказывали. Его услышали в первый раз в доме на улице Сигон, в пышном городе. Я не думаю, что его присвоили себе христиане. Еще менее вероятно, что так назвали новую секту сами евреи, которые никогда не подумали бы дать еретикам название, указывающее на них, как на последователей Христа, Мессии, с надеждою еще ожидаемого Израилем. Иудеи их называли, как нам известно, сектой назарян.
Название христиане должно было скорее возникнуть в народе, которому нужно было так или иначе, обозначить людей, ставших предметом общей молвы. Очень вероятно, что это название начало употреблялось как насмешка в простонародье, по отношению к последователям нового толка. Оно во всяком случае показывает, что последователи Христа завоевали себе внимание народа, и так как между ними были представители всех народностей, чернокожих и белолицых, то и пришлось им дать одно сборное наименование, доступное всем. Кто бы они ни были - греки или римляне, негры или арийцы, мужчины или женщины, евреи или не евреи, богатые или бедные, - общий признак, отличавший их от остальных людей, заключался в том, что они были последователями Христа.
Число последователей Христа умножилось так скоро, что несколько лет спустя в Антиохии существовала церковь, вполне устроенная. Мы в ней отмечаем наличие епископа, пресвитеров, диаконов, весь строй, который присущ всем церквам мира. Слышали ли вы о епископе Игнатии Антиохийском? Это самый известный и выдающийся из первых епископов церкви. Он родился еще при жизни Павла и был учеником евангелиста Иоанна. Ему минуло пятнадцать лет, когда происходили первые собрания в доме на улице Сигон. Вероятно и он присутствовал на них. Тридцать лет спустя он уже был рукоположен в епископы Антиохийские, а еще спустя 30 лет он был брошен на съедение львам в Риме, в большом цирке. Один из самых трогательных рассказов в летописи - это рассказ о том, как милый старик-епископ отправился на верную смерть. По дороге ему пришлось отдохнуть в Смирне, где жил епископ Поликарп, также ученик Иоанна. Он со всеми пресвитерами встретил Игнатия и старик благословил их всех. Тут же он написал несколько посланий окружающим Смирну общинам. Позвольте мне, привести отрывок из них. Игнатий очень опасался в случае его смерти возникновения раздоров, расколов и сект в осиротевших паствах. Он писал:
В молитвах ваших упоминайте в особенности Сирийскую церковь. Пастырем ее да будет Сам Бог вместо меня. Иисус Христос Сам станет ее епископом, когда меня не будет более в живых... Будьте в единении с вашими епископами, пресвитерами и дьяконами, которые были вам даны по воле Иисуса Христа. Почитайте их, как Апостолов ваших.
Мне не хочется вдаваться здесь в эти вопросы, но я не могу, говоря о церкви Антиохийской, не упомянуть о желании Игнатия. В последние годы во всех христианских кругах мы можем наблюдать усилия и движение к восстановлению единства церквей и я вижу в этом радостный признак добросовестности, честности и искренности.
📖 П. С.