"БРАТСКИЙ ВЕСТНИК"
ЖУРНАЛ "БРАТСКИЙ ВЕСТНИК"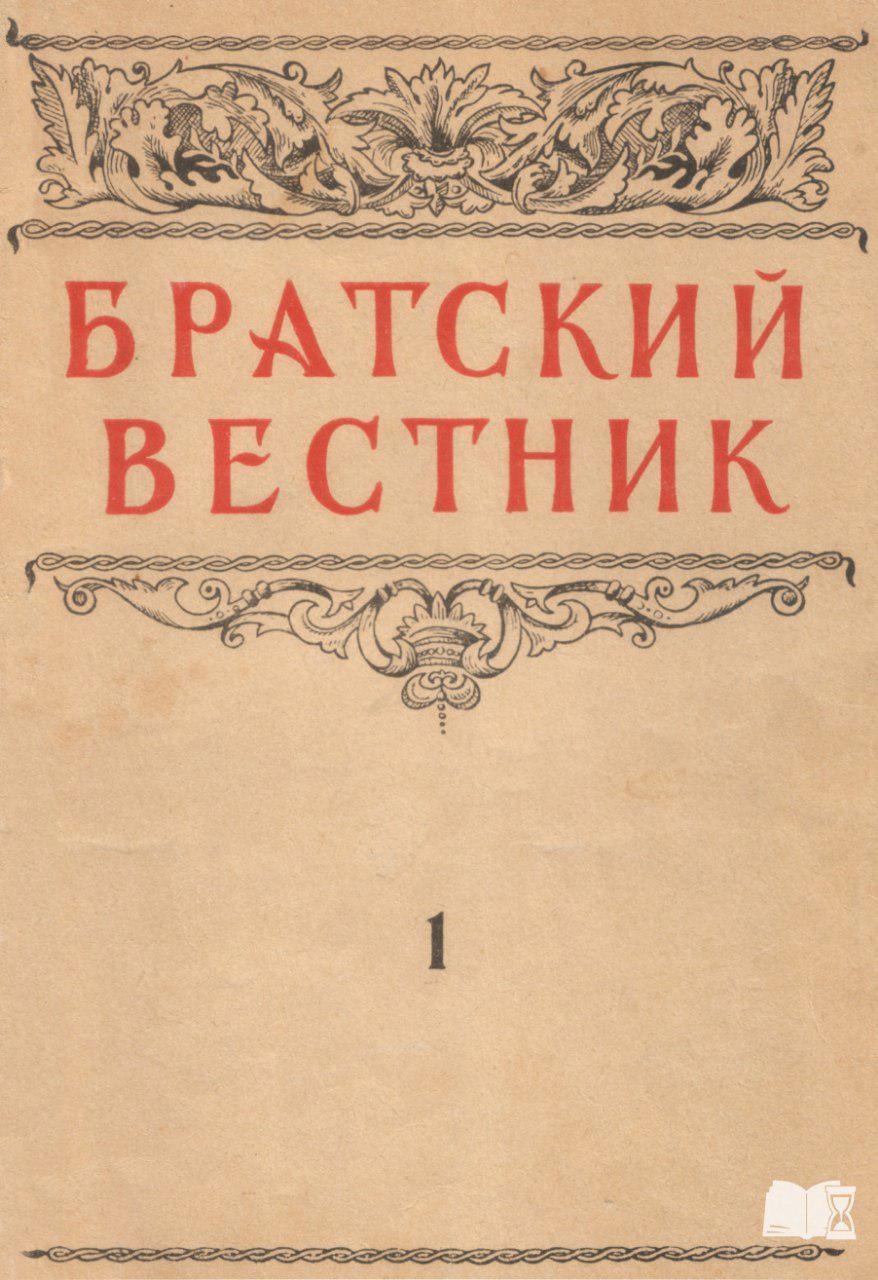
...⇓...
Первое благовестническое путешествие Апостола Павла
По уходе из Антиохии Павел и Варнава, взяв с собою Иоанна, прозванного Марком, отправились в Селевкию. От Антиохии до этого города путь недолог. Он идет извивами вдоль правого берега реки Оронта, через последние отроги Прерийских гор, через множество ручьев, которые приходится переходить вброд, через миртовые, лавровые, дубовые рощи, мимо зажиточных деревень, повисших на крутых гребнях горы. Налево раскинулась цветущая, превосходно возделанная долина Оронта. С юга закрывают горизонт лесистые вершины Дафнийских гор. Это уже не Сирия. Это классическая, смеющаяся, плодородная, цивилизованная страна. Каждое имя здесь напоминает о могущественной греческой колонии, которая придала этому краю столь крупное историческое значение и стала центром порой весьма упорного противодействия семитическому духу.
Селевкия — антиохийский порт и главный выход из северной Сирии на запад. Город, частью ушел в глубь долины, частью карабкается на крутизны, близ угла, который образуют холмы, намытые водами Оронта.
Господствующим культом в этой стране был культ горы Касия, красивой вершины правильной формы, по ту сторону Оронта; с этой горой связывалось немало легенд. Берег здесь негостеприимный, море бурное. Ветер со стороны залива, налетающий с гор вразрез волнам, всегда подымает в открытом море сильную зыбь. Чтобы укрыть корабли от налетающих с моря шквалов, устроен был искусственный бассейн, сообщавшийся с морем узким каналом. Набережные, мол, сложенные из огромных каменных глыб, существуют и поныне, безмолвно дожидаясь того уже недалекого дня, когда Селевкия вновь станет тем, чем она была когда-то, — одной из важнейших узловых станций земного шара. Посылая в последний раз рукой привет братьям, собравшимся на черном песке отмели, Павел видел прямо перед собой красивую дугу берега, образуемую устьем Оронта, справа — симметрический конус Касия, с которого триста лет спустя поднялся к небу дым последней языческой жертвы; слева — разорванные склоны горы Корифея; за ней, под самыми облаками, снега Тавра и Киликийский берег, замыкающий собою залив Исса. То был торжественный час. Уже несколько лет как вышедшее из страны, которая стала его колыбелью, христианство, однако, еще не переступало пределов Сирии. А Сирию, всю целиком, вплоть до Амануса, Евреи считали как бы входящей в состав Св. Земли, участницей ее прерогатив, обязанностей и религиозных верований. Именно в этот момент христианство действительно покинуло свою родную землю, отправляясь на завоевание мира.
Павел уже много странствовал, проповедуя слово Иисуса. Уже семь лет прошло с тех пор, как он стал христианином, и ни на один день не остывало его усердие, его горячая вера. И все же отъезд его из Антиохии вместе с Варнавой знаменует собою решительный поворот в его жизни. С этого момента для него начинается жизнь Апостола, в которой он проявил беспримерную энергию, невиданную страстность и рвение.
В те времена путешествия были делом весьма трудным, если ехать не морем. Павел, по-видимому, почти все время шел пешком, питаясь, без сомнения, хлебом, овощами и молоком. Сколько лишений в этой скитальческой жизни, сколько испытаний! Поэтому, когда возможно, он предпочитал путешествовать морем.
Здешние моря очаровательны, когда они спокойны, но им свойственны внезапные, безумные капризы; в таких случаях единственное спасение — выбраться на берег, уцепиться за какой-нибудь обломок. Гибель подстерегала путника со всех сторон. Труды и раны, и темницы, — все это он испытал «в изобилии», — говорит о себе сам Апостол, — «многократно был при смерти. От Иудеев пять раз мне было дано по сорока ударов без одного; три раза меня били палками; однажды камнями побивали; три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» — вот моя жизнь. Апостол писал это в 56 году, когда до конца его испытаний было еще далеко — еще около десяти лет предстояло ему вести эту жизнь, для которой только смерть могла быть достойным венцом.
Во всех почти путешествиях у Апостола Павла были товарищи, спутники, но он систематически отказывал себе в облегчении, из которого другие Апостолы, в особенности Петр, извлекали большое утешение и помощь, а именно — в подруге Апостольского служения и его трудов. Его отвращение к браку осложнялось еще деликатностью, — он не хотел навязывать церквам лишнюю обузу — кормить двух человек. Варнава следовал его примеру. Павел часто возвращается к мысли, что он ничего не стоит церквам. Он находит вполне справедливым, чтобы Апостол жил за счет общины, и «наставляемый делился всяким добром с наставляющим», но сам он вкладывает в это известную утонченность; он не хочет пользоваться и тем, что почитает законным. Он поставил себе за правило и соблюдает его, — за одним исключением — кормиться исключительно своей работой. Для Павла это был вопрос морали и благого примера. Повсюду, где Павел основывался сколько-нибудь прочно или хотя бы останавливался на несколько дней, он брался за свое ремесло — делание палаток. Когда Павел и другие Апостолы отправились в свое первое благовестническое путешествие христианство уже получило быстрое распространение, что было бы необъяснимо без упоминания о синагогах, которыми было покрыто побережье Средиземного моря. Эти синагоги обыкновенно не бросались в глаза; с виду это были обыкновенные дома. Прибыв в такую, общину, обыкновенно радушно принятый Апостол дожидался субботы, чтобы вместе с другими отправиться в синагогу. Таков уж был обычай: захожего человека, казавшегося ученым или особенно ревностным к вере, обыкновенно приглашали сказать несколько поучительных слов. Пользуясь этим обычаем, Апостол излагал христианское учение. Совершенно так же поступал и Иисус. В первый момент общим чувством было чувство удивления. Оппозиция обнаруживала у себя, уже некоторое время спустя, появление обращенных. Тогда начальники синагоги, случалось, прибегали к насилию: подвергали Апостола тяжелому и постыдному наказанию, положенному для еретиков, или же жаловались властям на новатора, и его изгоняли или били палками. К язычникам Апостол обращался с проповедью уже после Евреев.
Эти странствия евангелистов дышат юностью сердца, в которой было что-то новое, оригинальное, чарующее.
«Деяния Апостолов» — книга радости, пылкой и ясной веры. В этой книге дышит утренний ветерок, она вся пропитана запахом моря, весело бодрящим. Это был второй поэтический период христианства. Первый — был пережит на Тивериадском озере и на рыбачьих лодках. Затем более мощный ветер, стремление к более отдаленным краям вынесли Апостолов в открытое море.
Первое место, где пристали три благовестника, был остров Кипр, древний край со смешанным населением, где греческая и финикийская расы, вначале жившие бок о бок, под конец почти слились в одно. Кипр — родина Варнавы, и это обстоятельство, несомненно, сыграло видную роль в выборе маршрута путешественников. На Кипре уже были посеяны семена христианской веры, во всяком случае, новая религия насчитывала в лоне своем многих киприотов. Еврейских кварталов здесь было много.
Апостол Павел и его спутники вышли на берег в древнем порту — Саламине — и прошли весь остров с востока на запад, наклоном к югу, по всей вероятности, вдоль берега. Эта часть острова была населена главным образом финикиянами; здесь были расположены города Титтиум, Амофонт, Пафос, древние семитические центры, еще не утратившие своей самобытности. Павел и Варнава проповедовали в еврейских синагогах. Из этого путешествия нам известен один только эпизод, имевший место в Нео-Пафосе, городе новейшего происхождения, выросшем в некотором отдалении от старого Пафоса, прославившегося культом Венеры. По-видимому в это время Нео-Пафос был резиденцией римского проконсула, правившего островом Кипром. Этот проконсул был Сергий-Павел, потомок славного рода, по-видимому, как это нередко бывало с римлянами, он не прочь был позабавиться верованиями и суевериями той страны, куда его забросила судьба. Он держал при себе Еврея, по имени Вариисус, который выдавал себя за волхва, величая себя Елимой. Вариисус оказывал Павлу и Варнаве всяческое противодействие.
Предположение Иеронима, что Савл именно в честь проконсула Сергия-Павла нарек себя Павлом, не что иное, как произвольная догадка; однако в этой догадке нет ничего невероятного. Действительно, именно с этих пор автор «Деяний» всюду называет Савла Павлом.
Возможно также, что у Павла было два имени и что с того момента, как Апостол вступил в более непосредственные и систематические связи с языческим миром, он стал носить только одно имя — Павла.
Довольные сделанным на Кипре, Апостолы решили перебраться на соседний берег Малой Азии. Из провинций этой страны одна только Киликия уже слышала проповедь нового учения и обладала церквами. Географический район, который зовется Малой Азией, не представлял собою чего-либо единого и нераздельного. Он состоял из стран, глубоко различных в расовом и социальном отношении. Западная часть полуострова и весь берег еще в глубокой древности были захвачены вихрем цивилизации, для которой Средиземное море стало внутренним морем. Со времени упадка Греции и Египетского царства Птолемеев эти страны слыли самыми образованными из всех известных в ту пору, или по крайней мере производившими наиболее людей, выдвинувшихся в литературе. Во главе прогресса, как теперь выражаются, стояли Ассийская провинция и древнее царство Пергам. Но в центральной части полуострова цивилизация не сделала особенных успехов; здесь продолжали держаться местных обычаев, как в древние времена. Здесь еще сохранились некоторые местные наречия. Дороги здесь были в очень плохом состоянии.
Малая Азия после Палестины была религиознейшей в мире страной: целые области, как, например, Фригия, и города, как, например, Тиан, Веназ, Кумы, Кесария Каппадокская, Назианз, были всецело охвачены мистицизмом. Во многих местах священники были почти неограниченными владыками.
Политической жизни здесь не осталось и следа. Все города наперерыв пресмыкались перед Цезарями и римскими чиновниками, добиваясь звания «друга Цезаря». Города с ребяческим тщеславием оспаривали друг у друга пышные наименования «метрополии», «славного города» и т. п., жалуемые императорскими рескриптами. Страна эта покорилась римлянам без кровопролитной борьбы, по крайней мере без народного сопротивления. Ее история не упоминает ни об одном политическом восстании. Цивилизация распространялась здесь с поразительной быстротой. Повсюду мы видим следы благодетельного воздействия Клавдия и благодарности к нему населения, лишь изредка нарушавшиеся отдельными вспышками мятежа. Здесь было не то, что в Палестине, где старинные учреждения и глубоко укоренившиеся обычаи вызывали упорное сопротивление. За исключением Исаврии, Писидии, некоторых местностей Киликии, еще сохранивших слабую тень независимости, и, до известной степени, Галатии, в стране угасло всякое национальное чувство. Собственной династии у нее никогда и не было. Старые провинции: Фригия, Лидия, Кария, в былое время отличавшиеся каждая ярко выраженной индивидуальностью, давно умерли как политические единицы. Искусственно созданные царства: Пергам, Вифиния, Понт также умерли. Весь полуостров отдался под владычество римлян.
Культ императора, в особенности Августа и его супруги Ливии, были господствующей религией Малой Азии. Повсюду воздвигались храмы этим земным богам, совместно с другим божеством — Римом. Из жрецов Августа, сгруппированных по провинциям, с первосвященниками во главе (нечто вроде митрополитов или примасов), впоследствии составилось духовенство, организованное наподобие того, как организовалось при Константине христианское духовенство. Политическое завещание Августа сделалось чем-то вроде священного текста, всенародного поучения, вырезанного и увековеченного на прекрасных памятниках для того, чтобы сделать его одинаково доступным для взоров всех. Города и племена охотно присваивали себе эпитеты, доказывавшие, что они свято хранят память о великом императоре. Во всем этом было и раболепство и низость, но больше всего сознание, что началась новая эра счастья, неведомого дотоле и после того в течение многих веков остававшегося безоблачным. Дионисий Галикарнасский, быть может, своими глазами видевший покорение родной страны, написал римскую историю, в которой восхвалял перед своими соотечественниками превосходство римского народа, доказывая им в то же время, что этот народ одной с ними расы, и, следовательно, они являются до известной степени участниками его славы. После Египта и Киренаики больше всего Евреев было в Малой Азии. Они составляли здесь могущественные общины, ревниво оберегавшие свои права, чуть что крича о преследовании, усвоившие себе несносную привычку то и дело обращаться с жалобами в Рим, ища протекции вне родного города. Они добились от римского правительства надежных гарантий и, в сущности, находились в привилегированном положении, сравнительно с другими классами населения. Они не только свободно исповедовали свою веру, но и были освобождены от многих общих для всех повинностей, как они уверяли, противных их совести. Римляне в этих провинциях очень благоволили к ним и в спорах Евреев с туземными жителями первые всегда оказывались правыми.
Отплыв из Нового Пафа, три благовестника двинулись по направлению к устью Цестра, в Памфилию, и, поднявшись вверх по течению, прибыли в Пергию, большой цветущий город, где процветал древний культ Дианы, почти столь же известный, как и культ Дианы Ефесской. Этот культ имел много общего с пафосским культом, и возможно, что именно этими постоянными сношениями двух городов, поддерживавших между собой правильное водное сообщение, и обуславливался маршрут Апостолов. Вообще два параллельных берега — Кипра и Малой Азии — как бы перекликаются один с другим. Оба заселены народами семитического происхождения, к которым примешалось много различных элементов и которые, вследствие этого, значительно утратили свой первоначальный характер.
В Пергии произошел разрыв между Павлом и Иоанном, прозванным Марком. Иоанн-Марк покинул Апостолов и вернулся в Иерусалим. Разрыв этот, без сомнения, был тягостен для Варнавы, так как Иоанн-Марк был его родственником. Но Варнава не оставил своего намерения пройти насквозь всю Малую Азию. Двое Апостолов, все больше углубляясь внутрь страны и все время идя по направлению к северу между бассейнами Цестра и Эвримадона, прошли Памфилию, Писидию и добрались до пределов гористой Фригии. Путь был опасный и трудный. В этом лабиринте гор и крутых горных отрогов жили варварские племена, лишь отчасти укрощенные римлянами и промышлявшие разбоем. Павла, привыкшего к холмам Сирии, несомненно, должны были поражать эти романтические картины горной природы, с озерами и глубокими долинами.
В первую минуту дивишься, почему Апостолы шли таким странным путем, держась вдали от больших центров и наиболее модных дорог. Без сомнения, и в этот раз они опять шли по следам еврейских эмигрантов. В Писидии и Ликаонии были города, как, например, Икония и Антиохия Писидийская, где давно уже осели большие еврейские колонии. Вдали от Иерусалима, чуждые влияниям палестинского фанатизма, здешние Евреи жили в ладу с язычниками и многих из них обращали в свою веру. Эти последние ходили в синагогу, смешанные браки тоже не были редкостью. Павел еще в Тарсе мог узнать, как выгодно сложились здесь условия для насаждения и процветания новой веры. От Тарса рукой подать до Дервии и Листры. Возможно, что у Павловой семьи были в этой стороне родственные связи и знакомства или по крайней мере подробные сведения об этих отдаленных местностях.
Отправившись из Пергии, двое Апостолов прибыли в Антиохию Писидийскую, или Антиохию Кесарию, находившуюся в самом центре высоких горных плато полуострова. Эта Антиохия не имела, как город, большого значения, пока Август не возвел ее в ранг римской колонии, не дал ей италийского права. Тогда она сильно разрослась и отчасти изменила свой характер. До сих пор это был город священников, вроде Кум; прославивший его храм с богатыми угодьями и легионами г. Иеродул был разрушен римлянами за 25 лет до Рождества Христова. Но существование этого храма, как это всегда бывает, оставило глубокий след в жизни и нравах населения. Без сомнения, вслед за римской колонией и Евреи потянулись в Антиохию Писидийскую.
В субботу оба Апостола, по обыкновению, отправлялись в синагогу. После чтения Закона и Пророков начальники синагоги, заметив двух чужестранцев, по-видимому благочестивых, послали спросить их, не желают ли они обратиться к народу с назидательным словом. Павел стал говорить: рассказал о тайне рождения Иисуса, о его крестной смерти и воскресении. Он произвел сильное впечатление, и Апостолов просили повторить проповедь в следующую субботу. По выходе их из синагоги, за ними пошла целая толпа Иудеев и обращенных из язычников, и всю неделю Павел с Варнавой усердно проповедовали народу. Об этом прослышало языческое население города и возгорелось любопытством.
В следующую субботу весь город собрался в синагоге, но настроение правоверных Иудеев за эту неделю совсем изменилось. Они уже раскаивались в обнаруженной ими в прошлую субботу терпимости. Эти толпы язычников, сбежавшихся послушать проповедь новой веры, раздражали еврейских нотаблей; начался диспут, вперемежку с бранью. Павел и Варнава стойко выдержали бурю; но все-таки им не дали говорить в синагоге, и они ушли, протестуя: «Вам первым надлежало быть проповедано слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Действительно, начиная с этого момента Павел все более и более убеждался, что будущее принадлежит не Иудеям, а язычникам, что посев на нетронутой почве принесет гораздо более обильные плоды: что Бог нарочито избрал его Апостолом всех языков, для того чтобы он возвестил народам спасение от края до края земли. Его великая душа обладала особым свойством: раскрываться и расширяться без конца.
Языческое население отнеслось с полным сочувствием к проповеди новой веры. Многие обратились и сразу стали прекрасными христианами. Как мы увидим далее, то же самое было в Филиппах, в Александрии Троадской и вообще в римских колониях. Для этих добрых и религиозных людей более отвлеченный, очищенный от суеверий культ имел неотразимую привлекательность; это сказывалось до сих пор в обращениях в иудейство, теперь сказалось в обращениях в христианство. Несмотря на свой странный культ, может быть, именно в виде реакции против этого культа, население Антиохии, как и большая часть населения Фригии, обнаружило склонность к монотеизму. Новая религия, не требовавшая обрезания и не принуждавшая к исполнению разных мелких, докучных обрядов, пришлась больше по душе благочестивым язычникам. Поэтому они скоро отдали ей предпочтение. Эти глухие углы, затерянные в горах, ничем не знаменитые в истории и ни для кого не представлявшие большого значения, были превосходной почвой для посева новой веры. Здесь образовалась довольно многочисленная церковь, и Антиохия Писидийская стала центром, откуда новое учение засияло яркими лучами далеко вокруг.
Успех новой проповеди среди язычников окончательно привел в ярость Иудеев. Против благовестников начались интриги, образовался целый заговор. Некоторые из самых влиятельных в городе женщин перешли в иудейство. Правоверные Иудеи убедили их добиться от своих мужей изгнания Варнавы и Павла. И в самом деле, оба Апостола были изгнаны указом городских властей из города и из пределов всей Антиохии Писидийской.
По обычаю Апостолов, изгнанники, уходя из города, отрясли прах от ног своих. Затем они направились в Ликаонию и после пяти дней пути по плодородной стране пришли в город Иконию. Ликаония, подобно Писидии, была заброшенным уголком, мало известным и сохранившим свои древние обычаи. В жителях ее еще не угасло чувство патриотизма, нравы здесь были чисты, люди серьезны и честны. Икония была городом древних верований и старых традиций — традиций, во многих отношениях приближавшихся к иудейским. Город, до тех пор очень небольшой, в момент прибытия Павла только что получил или должен был получить от Клавдия титул колонии. Крупный римский чиновник Луций-Пупий-Презенс — прокуратор Галатии именовал себя вторым основателем этого города и заменил его древнее имя новым — Клавдии, или Клавдиконии.
Без сомнения, благодаря этому обстоятельству Евреев здесь было много — и еще больше иудействующих. Павел и Варнава стали говорить в синагоге, образовалась церковь. Икония, в свою очередь, стала центром Апостольской деятельности, и Апостолы оставались здесь долго. Они имели здесь большой успех. Они обратили многих Евреев и еще больше язычников, проповедуя вне синагоги симпатичному туземному населению, которого уже не удовлетворяли старые религии. Нравственная чистота учения Христа восхищала добрых Ликаонян.
Буря негодования Иудеев, принудившая Апостолов покинуть Антиохию Писидийскую, выгнала их и из Иконии. Правоверные Иудеи агитировали среди языческого населения, восстанавливали его против благовестников. Город разделился на два лагеря. Апостолов хотели побить каменьями. Они бежали, покинув столицу Ликаонии.
Икония расположена вблизи периодически высыхающего озера у окраины большой степи, занимающей всю центральную часть Малой Азии и до тех пор не поддававшейся никаким попыткам цивилизации. До тех пор собственно в Галатию и Каппадокию путь был закрыт. Павел и Варнава пошли в обход вокруг подножия бесплодных скал, с юга полукругом обступивших равнину. Эти горы не что иное, как северный отрог Тавра; но так как центральная равнина сильно приподнята под уровнем моря, Тавр в этом месте достигает лишь незначительной высоты. Местность здесь скучная, однообразная, почва то болотистая, то песчаная или растрескавшаяся от зноя, имеет безотрадно унылый вид. Лишь громада потухшего вулкана, который теперь зовется Карадагом, образует как бы остров посреди этого бесконечного моря пустыни.
Теперь поприщем деятельности Апостолов сделались два маленьких безвестных городка, Листра и Дервия.
Теперь даже трудно с точностью определить, где именно они находились. Затерянные в долинах Карадага среди бедных племен, занимавшихся скотоводством, у подножия гор, служивших притоном и убежищем знаменитым в древности разбойникам, эти два городка были настоящими захолустьями. Цивилизованному римлянину, случайно попавшему туда, казалось, что он очутился среди дикарей, говорили здесь на ликаонском наречии. Евреев здесь было мало. Клавдий, основав колонии в неприступных ущельях Тавра, внес в этот обездоленный край порядок и безопасность, какие ему и во сне не снились.
Листре первой довелось услышать евангельскую проповедь. Здесь произошел странный инцидент. В первое время пребывания Апостолов в этом городе распространился слух о чудесном исцелении Павлом хромого от рождения. Здешние жители, любители чудесного, были страшно поражены и вообразили, что к ним сошли на землю сами боги в человеческом образе. Вера в то, что боги время от времени спускаются на землю, была весьма распространена в особенности в Малой Азии.
Древнее фригийское предание, освященное храмом, годовым праздником и красивыми легендами, гласило, что именно таким образом путешествовали по земле Зевс и Ермий (Гермес). Поэтому Апостолов приняли именно за этих двух богов. Варнаву, который был выше ростом и крупнее Павла, называли Зевсом; Павла, который был красноречивее — Ермием. У городских ворот находился храм, посвященный Зевсу. Жрец этого храма, узнав, что его бог сошел на землю и появился в городе, счел долгом совершить торжественное жертвоприношение. Уже были приведены быки и фронтон храма украшен венками, когда прибежали Варнава и Павел, раздирая на себе одежды и уверяя, что они не боги, а люди. Эти языческие народы, как мы уже говорили, придавали чуду совсем иное значение, чем Евреи. Для этих чудо было доказательством истинности учения; для тех — непосредственное откровение божества.
В Листре совсем не было или было очень мало Евреев, родом из Палестины, Апостолы долго жили здесь спокойно. Одно из семейств этого города стало центром и рассадником самого высокого благочестия. Семейство это состояло из старухи бабушки по имени Ленды, матери Евники и юноши, сына, который звался Тимофеем. Обе женщины, без сомнения, были обращенными в иудейство язычницами. Евника была замужем за язычником, которого, по всей вероятности, уже не было на свете, во время прибытия в город Павла и Варнавы. Тимофей рос между этими двумя женщинами, воспитываемый в чувствах глубокой набожности и усердия к вере, посвящая все свое время изучению Священного Писания; но как это часто бывало с самыми благочестивыми прозелитами, родители не позаботились образовать его. Павел обратил в христианство обеих женщин, а они, в свою очередь, обратили Тимофея, которому было тогда, вероятно, лет около 15.
Слух об этих обращениях достиг Иконии и Антиохии Писидийской. Иудеи в этих двух городах снова распалились гневом против Апостолов и отправили в Листру нескольких человек нарочно для того, чтобы взбунтовать против них народ. Фанатики схватили Павла, выволокли его за город, побили каменьями и бросили полумертвого в поле. На помощь ему пришли ученики; раны оказались не серьезными; Апостол вернулся в город, по всей вероятности, ночью и на другое утро вместе с Варнавою отправился в Дервию.
Здесь они опять-таки прожили долго и многих обратили ко Христу. Эти две церкви — в Листре и Дервии — были первыми церквами, состоявшими почти исключительно из язычников. Легко себе представить, как должны были различаться между собою эти церкви и палестинские, основанные в лоне чистого иудаизма или хотя бы антиохийская, выросшая на иудейской закваске и в обществе, уже иудействующем. Здесь обращались совершенно нетронутые души, очень религиозные, но с воображением, направленным совсем в иную сторону, чем у сирийцев. До тех пор христианская проповедь оказывалась плодотворной лишь в больших городах, где жило много ремесленников. С этого момента появляются церкви и в небольших городах. Ни Икония, ни Листра, ни Дервия не представляли собой достаточно крупных центров для того, чтобы в них могли образоваться церкви — рассадники веры, наподобие коринфской и ефесской. Павел обыкновенно называл своих последователей в Ликаонии по имени той провинции, где они жили, а провинцией этой была «Галатия», понимая это имя в том административном смысле, какой ему придавали римляне.
Итак, провинция, обозначаемая под именем Галатии, по крайней мере, при первых Цезарях, заключала в себе: 1. Собственно Галатию; 2. Ликаонию; 3. Писидию; 4. Исаврию; 5. Гористую Фригию с городами Апполонией и Антиохией. Такое положение вещей упрочилось надолго. Столицей этого огромного целого, обнимающего собой почти всю центральную часть Малой Азии, был город Анцира. Римляне не прочь были менять таким образом древние географические названия и границы, создавая произвольные административные группы, для того чтобы разбить состав известной национальности и расстроить связь воспоминаний.
Павел имел привычку обозначать каждую страну ее административным именем. Страна, где он проповедовал Евангелие, от Антиохии Писидийской до Дервии, для него была «Галатией», а христиане этой страны «галатами». Это имя навсегда было ему особенно дорого. Галатийские церкви были из тех, к которым Апостол питал особенную нежность и которые, в свою очередь, любили его. Одним из самых ярких впечатлений его Апостольской жизни было воспоминание о дружбе и преданности, которое он нашел у этих добрых людей. Некоторые обстоятельства еще удвоили живость этих воспоминаний. По-видимому, в период своего пребывания в Галатии, Апостол не редко испытывал приступы слабости или болезни, и почтительная заботливость его верных прозелитов трогала его до глубины души. Перенесенные вместе гонения довершили дело, создав между ними прочную связь. Таким образом, маленький ликаонский центр получил крупное значение; Апостол Павел любил возвращаться к своему первому детищу, оттуда же он впоследствии вывел своих самых верных спутников: Тимофея и Гая.
Уже четыре или пять лет Апостол вращался, таким образом, в довольно тесном кругу. В то время он не столько думал о дальних и быстрых путешествиях, под конец жизни ставших его страстью, сколько о том, чтобы упрочить основанные им церкви так, чтобы они могли служить ему точкой опоры. Не известно, поддерживал ли он за это время сношения с антиохийской церковью, откуда он был послан на служение. В нем пробуждалось желание увидеть эту церковь — мать. Он решил навестить ее и еще раз прошел в обратном направлении уже однажды пройденный путь: Листру, Иконию, Антиохию Писидийскую. Апостолы вторично посетили эти города, снова подолгу жили в них, утверждая верных в вере, призывая их к стойкости, к терпению, уча их, что лишь многими скорбями можно войти в царствие Божие. Уклад этих отдаленных церквей, впрочем, был очень несложен. В каждой церкви Апостолы рукополагали пресвитеров. Церемония прощания бывала трогательна. Назначали общий пост, молитву, после чего благовестники поручали верных Богу и двигались дальше.
Из Антиохии Писидийской Апостолы снова пришли в Пергию, где на этот раз проповедовали, по-видимому, успешно. Города паломничеств и процессий нередко оказывались благоприятной почвой для Апостольской проповеди. Из Пергии они отправились в Атталию, большой порт в Памфилии, и там сели на корабль, доставивший их в Селевкию; а из Селевкии вернулись вновь к исходной точке своего пути, в великую Антиохию, откуда они, пять лет тому назад, «были преданы благодати Божией».
Поприще их благовестничества было не слишком обширно. Они прошли остров Кипр в длину и часть Малой Азии по ломаной линии. Это был первый пример такого рода благовестнического путешествия; ничего не было налажено, организовано. Павлу и Варнаве приходилось преодолевать много внешних препятствий и трудностей. Они по необходимости не могли бросить своего ремесла и принуждены были останавливаться, чтобы заняться им, приспосабливаясь к местности, где они находили работу. Отсюда проволочки, периоды застоя. Несмотря на множество препятствий, это первое благовестническое путешествие дало огромные результаты. Когда Павел сел на корабль, чтобы отплыть обратно в Антиохию, главное уже было сделано, — им уже было основано несколько церквей из язычников.
Малой Азии суждено было сделаться второй колыбелью христианства. После невзгод, которые вскоре затем пришлось пережить церквам Палестины, она стала главным очагом евангельской веры, ареной ее важнейших переживаний.
📖 Р. К.