Мы и Они. Дискуссия о мигрантах, ксенофобии и исследованиях этничности
Agregator
Термины и границы
Борис Долгин: Понятно, что разделение «мы — чужие» — достаточно классическое и может рассматриваться в рамках многих наук. Давайте для начала разберемся: мы сначала понимаем, что мы имеем дело с чем-то чужим, и поэтому действуем так, или мы сначала действуем некоторым образом и таким образом, создаем это как другое?
Елена Филиппова: Мне кажется, что это двустороннее оружие. Происходит и то и другое, потому что способность идентифицировать «другого» как «чужого» необходима человеку, прежде всего, для того, чтобы он мог идентифицировать себя, потому что если перед нами нет визави, то мы никогда не можем понять, кто мы сами. Мы спонтанно реагируем на непривычное, которое воспринимается как чужое, а потом должны оправдать перед собой свою реакцию. Но бывают и обратные ситуации, особенно если мы говорим о государстве и любой власти. От того, как эти люди описывают присутствующее на подвластной территории население, очень сильно зависят практики этого самого населения.
Вот хороший пример о важности терминологии. Когда во Франции после Второй мировой войны случилось мощное развитие промышленности и строительства, в эти знаменитые 30 славных лет был брошен клич «Приезжайте к нам, пожалуйста» — и стали прибывать люди. Поначалу их называли «трудящиеся мигранты» — до того момента, как в 1974 году было принято решение остановить эту миграцию. После чего эти люди, которые ранее циркулировали туда-сюда, остались — они понимали, что если выедут, вместо них уже никто не приедет. В этот момент они превратились в «иммигрантов», которые остались в стране насовсем.
С этого момента отношение к ним в обществе и со стороны властных структур изменилось, потому что мигранты — это одно, а иммигранты — это совсем другое. Но в англо-саксонском мире этого не произошло, потому что там другая концепция проведения границ: во Франции существует главное различие — это французы или иностранцы. Французы — это те, у кого есть французский паспорт, иностранцы — у кого французского паспорта нет. То есть если это француз, родившийся за границей, то он не иммигрант. В других культурах этого не произошло, потому что там это определяется иначе — и там и по-прежнему употребляется слово «мигранты».
В России, что характерно, мы тоже употребляем слово «мигранты», потому что у наших властей есть посыл, что эти люди должны уехать. И поэтому мы не очень заинтересованы в том, чтобы их тут адаптировать, интегрировать и вообще с ними что-то делать — они поработали и пусть теперь отправляются домой. Наряду со словом «мигрант» есть отвратительное, на мой взгляд, слово «приезжие». Оно позволяет с помощью ловких манипуляций вроде бы и правду говорить, но в то же время активно транслировать ложь, потому что оно используется как синоним слова «мигрант», когда, например, говорят о проценте преступлений, совершенных этими самыми «приезжими». При этом они могут приехать из соседней к Москве области. Таким образом надувается статистика, а общество начинает паниковать и воспринимать мигрантов как чужих, и опасных чужих.
Аналогичная история происходит в США. Там главенствующим концептом является концепт расы, и границы проходят в первую очередь между «черными» и «белыми». Неизвестно, куда девать испанцев, потому что они вроде бы не «черные», но и не совсем «белые». И параллельно с этой расовой линией есть еще различия между местными уроженцами и приезжими. Казалось бы, у приезжего родился ребенок, и он уже местный — но нет, их всех записывают в ту или иную расовую группу, чтобы принадлежность человека осталась и с ним, и с его детьми, на веки вечные. Интереснее всего, что в США часто иммигрируют люди из тех обществ, где никогда не было деления на «черных» и «белых», а потому они не привыкли мыслить о себе в расовых категориях.
Борис Долгин: Насчет рас в Соединенных Штатах. Это в самом деле играет сейчас такую большую роль? Сейчас, не в пятидесятые годы? Для чего?
Елена Филиппова: Американская всеобщая перепись населения задает людям семь вопросов. Из них два — это место жительства и телефон, неинформативные вопросы. А из остальных пяти один про расу и один про этничность, причем под этничностью понимаются только испанцы. То есть они пришли к выводу, что испанцы — это не раса, это что-то, что будет называться «этничность». Затем после каждой переписи публикуются карты, на которых указано, какой процент черных, белых и испанцев проживает в каждом графстве. И каждый человек может учесть эту информацию при переезде.
Но в этой статистике есть огромная путаница. Они используют в качестве обобщающего термина слова black, african american и negro. Но это означает, что в общую категорию попадают и потомки африканских рабов, американские жители, и новые эмигранты — образованные элиты, вроде Барака Обамы. Благодаря этому фокусу можно показать, что в стране имеется социальная мобильность. Но два этих слоя черного населения никак друг с другом не связаны и никак друг друга не воспринимают. Вроде бы граница на практике есть, а в статистике ее нет.
Если в США центральная категория — это раса, то в России — национальность, де-факто — этничность. Это тот самый «пятый пункт», который появился в тридцатых годах, и который спрашивали везде — в библиотеке, в поликлинике. И считалось, что национальность у тебя только одна, менять ее нельзя и она достается от родителей. Отсюда удивительный исключительно российский феномен. В массовом сознании считается стыдным не знать языка своей национальности, но есть огромное количество людей, которые не владеют «своим языком». Как это получилось?
В конце XIX века статистики всего мира создали Конгресс статистиков и стали думать о том, как стандартизировать перепись населения по всему миру, чтобы затем можно было сравнивать и анализировать результат — и возник вопрос, как категоризировать население стран. Было две школы — французская, которая считала, что «по гражданству и точка» и немецко-австрийская, которая выступала за «национальность».
А что такое национальность? Как ее фиксировать? Предложили по родному языку, на котором человек говорит с детства. А потому в первой переписи населения России 1897 года не было вопроса о национальности. Было два вопроса — религия и язык. С самого начала родной язык был как proxy для национальной принадлежности. Это так и осталось. Сегодня эти два вопроса задаются отдельно, но подразумевается, что если ты бурят, то родной язык у тебя бурятский. Я тоже с этим сталкивалась: респондент в поле ни слова не говорит на родном языке, но на вопрос о родном языке отвечает «бурятский», потому что «я же не могу предать своих предков».
Отсюда эта замечательная категория «люди, не владеющие родным языком». За рубежом не понимают, что мы хотели этим сказать.
Важная вещь, которую нужно знать по поводу этничности — она возникает не снизу, а апостериори. Например, так произошло в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В 80-е во время переписи населения там были впервые введены категории «канадец», «австралиец» и «новозеландец» — раньше вместо нее была категория «новозеландский европеец» и тому подобное. Сразу же выросло количество людей, которые себя так определяют. Но это оказались в основном потомки первых англо- и франкоязычных европейских переселенцев, а не мигранты XX века, всякие поляки, украинцы или выходцы из Африки и Азии.
Получается, что в этих странах не было доминирующей этнической группы, но она создалась из мигрантов самого разного происхождения.
Вообще, категории бывают разные. Бывают категории, которые используют ученые в своих исследованиях. Бывают категории, которые использует Росстат и другие статистические организации в других странах в своих подсчетах. Бывают категории, которые используют журналисты. Бывают категории, которые используют политики. Одно и то же слово в устах учёного означает одно, в устах политика — другое, в устах журналиста — третье.
Борис Долгин: Бывают ещё ещё слова, которые использует простой человек.
Елена Филиппова: А простой человек, встречая такую категорию, должен понять, кто ему это говорит — политик, журналист или ученый — и что говорящий в это слово вкладывает. Но чаще всего никто не делает эту логическую процедуру и слышит то, что вкладывает в это слово сам. Поэтому, когда вам говорят, что 80 процентов преступлений в Москве совершают приезжие, то один человек слышит в этом слове «таджики», другой человек слышит «кавказцы», третий человек слышит слово «мигранты». Но на самом деле имелись в виду люди, пересекшие границу Москвы и Московской области, те у кого нет в Москве регистрации. Разве люди, которые используют это слово, не знают, как оно будет воспринято? Конечно, они знают, и иногда сознательно подменяют слово «мигранты» словом «приезжие» — и наоборот.
Екатерина Деминцева: Очень интересно, как обыватель воспринимает разные категории. Когда мы делали исследования в школах, то просили директоров школ привести нам детей-мигрантов. Под детьми-мигрантами мы понимали тех детей, которые приехали из других стран и пережили период адаптации. Их гражданство нам было неважно. Но нам все равно довольно часто приводили детей, например, из Дагестана или Чечни. Была одна девочка, которая родилась в Москве, в московской семье, и жила здесь всю жизнь, но у нее отец вьетнамец — она его даже никогда не видела. Но ее определяют в этой школе как мигрантку — потому, что она отличается внешне. Обратная ситуация с детьми из Украины. Когда я спрашивала у директоров школ о детях-мигрантах, они отвечали: «Ой, у нас в старших классах никого нет, только украинцы». То есть для них выходцы из Украины не мигранты, хотя у них украинский паспорт. Просто они-то внешне не отличаются.
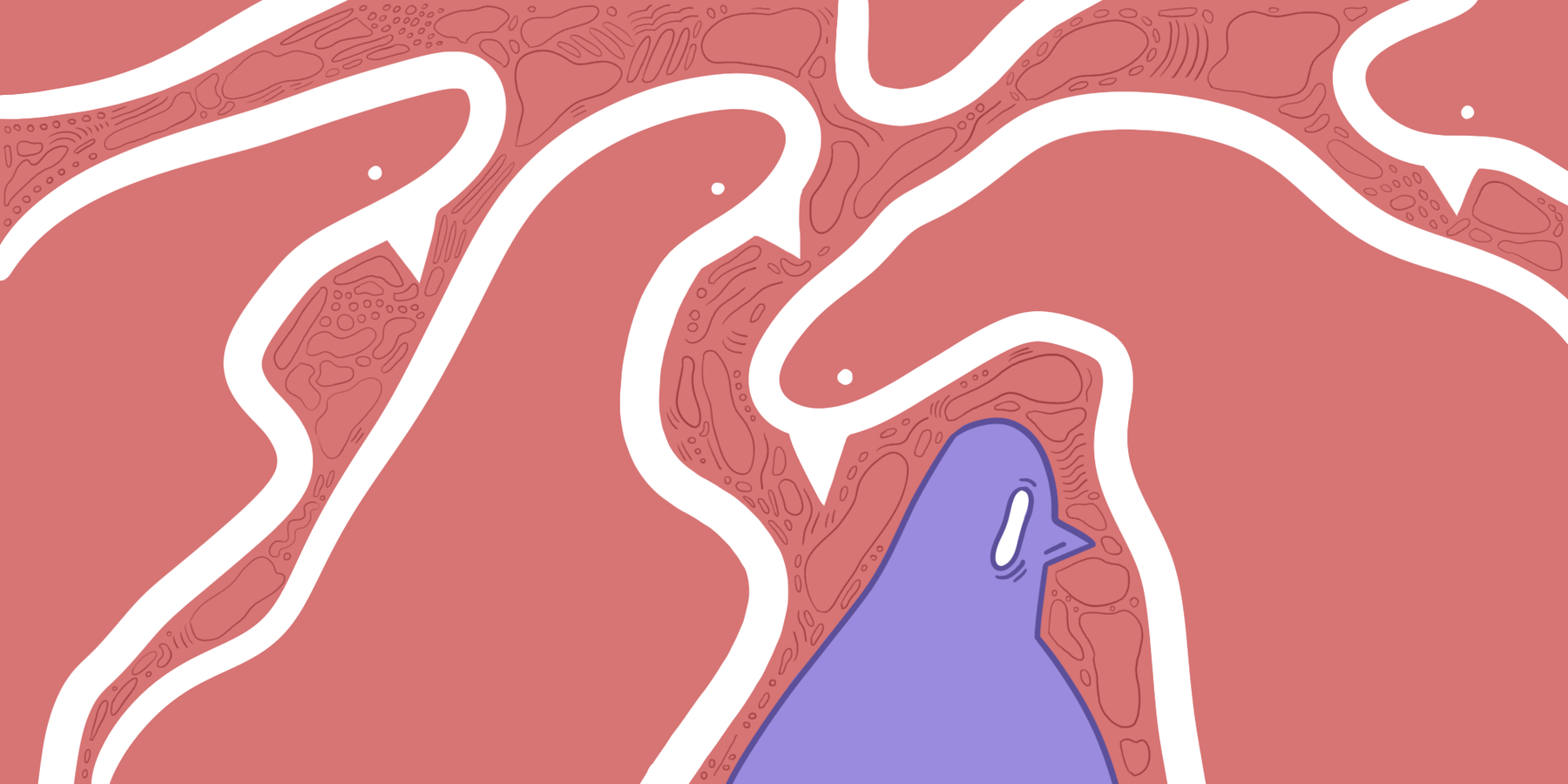
Этническое и социальное
Екатерина Деминцева: Я поддерживаю идеи, изложенные в книге Фредерика Барта «Социальный группы и этнические границы», о том, что идентичность, прежде всего, подвижна. Она основана не на каких-то реальных различиях, но напротив — эти различия выдуманы. Идентичность ситуативна. И она может формироваться под влиянием различных факторов.
Объясню на примере собственных исследований. Во Франции я изучала второе поколение мигрантов. Кто эти люди? Как они сами себя воспринимают? Называют ли они сами себя вторым поколением мигрантов или мы это придумали так их называть? И я слышала абсолютно разные ответы, когда задавала вопрос: «Кто ты?». Если я встречалась с респондентом во дворе университета, он начинал мне рассказывать, что он студент и здесь учится. Если я встречалась с другим респондентом пригороде, в квартире, где он сидит безработный, у него за стеной безработные мама и папа за стеной, и еще десять братьев, то он начинал мне рассказывать свою вот эту историю — но не мигрантскую, а историю этого этого квартала. Я здесь живу, я замкнут здесь, в этом квартале, я не могу выйти отсюда. Франция меня ненавидит, я ненавижу Францию. Если я встречалась с собеседником в каком-нибудь Institute du Monde Arab, и это был интеллектуал, выходец из арабской среды, он мне начинали рассказывать историю своего рода и как его семья попала во Францию. Из этого я сделала вывод, что второго поколения как общности не существует. Существуют наши представления о нем.
Борис Долгин: Когда вы как исследователь говорите «второе поколение» — это аналитическая категория, она имеет право на существование. Вы констатируете, что эти люди являются вторым поколением мигрантов. Другое дело, что вы можете задать вопрос о том, как они определяют себя сами и какое место это «второе поколение» занимает в их иерархии идентичностей. Но это не повод совсем отменять использованную категорию. Древние греки не назовут себя «древние греки», но это не повод нам их так не назвать.
Екатерина Деминцева: Да, абсолютно верно. И вот, почему важна эта теоретическая рамка. В исследовательском сообществе существует запрос на поиск этничности у мигрантов. Но я все время повторяю, что надо смотреть не на этничность, а на социальную категорию. Нужно ли искать действительно этничность, или мы ищем социальную границу, которая проходит между нами и «другими»? Мигранты другой этничности более заметны — а потому гораздо проще обобщить эту категорию до этничности.
Приведу пример из США. Когда упоминаются гетто в Америке, то всегда имеется в виду черное гетто, а когда говорят про похожие районы во Франции, то имеют в виду мигрантские кварталы. Но когда начинаешь делать исследования в таких французских кварталах, то сразу видно эту разницу: этничности там искать не надо. То есть в мигрантских кварталах живут люди, которые находятся в очень низкой социальной категории. Получается, что в этом квартале может жить кто угодно — просто сегодня в эту социальную категорию входят в основном те, кто происходит из мигрантской среды. Там белая бедность заменяется бедностью иноэтничной, которая непохожа на белую бедность, на первый взгляд. Поэтому нам очень легко сказать, что это мигрантский и этнический квартал. Но, на самом деле, здесь граница не этническая, а социальная.
И последнее про американское гетто. Если зайти на сайт любой американской школы и посмотреть рейтинги, можно увидеть соответствие: чем больше белых детей в школе и чем меньше латиносов, тем выше рейтинг школы по показателям результативности. И чем больше цветных детей, чем ниже рейтинг. Но здесь дело не в расе, а в том, что такие школы находятся в худших кварталах — и на них тратится менше средств.
Елена Филиппова: Принято считать, что дети мигрантов хуже успевают в школе, по сравнению с детьми не-мигрантов. И во Франции было проведено исследование, которое сказав «А», сказало и «Б». Исследователи сравнили не только детей мигрантов с детьми не-эмигрантов, они сравнили детей рабочих с детьми специалистов, предпринимателей, даже учителей — то есть из другой социальной среды. И что же они получили? Оказалось, что дети рабочих иммигрантов достигают лучшего результата, чем дети рабочих не-иммигрантов. То же самое характерно и для высшего состава с другими социальными категориями. Другое дело, что большинство мигрантов на сегодня — это представители более низких социальных страт.
Но сейчас начинается другая тенденция, которую пока мало кто осмыслил. Например, в Канаде и Австралии уже 90 процентов мигрантов — это люди как минимум с полным средним образованием. Во Франции таких мигрантов более 52 процентов.
То есть происходит изменение профиля миграции — низкоквалифицированные и бедные люди больше не могут себе позволить переезд в другую страну. У них для этого нет ни социального, ни финансового капитала, ни соответствующих компетенций. Поэтому теперь мигранты — это зачастую дети нового среднего класса, получившие хорошее образование.
Поэтому сейчас происходит то, что называется культурным империализмом — то есть замещение элит. Например, среднемедицинский персонал из Румынии едет в Австрию. А из Австрии медики едут в Америку. Всегда было принято говорить, что иммигранты отнимают рабочие места, но раньше они работали на непрестижных работах, потому что «ну на эти же работы местные не идут». А сегодня они начинают составлять реальную конкуренцию квалифицированной части трудоспособного населения. Но мигрантов продолжают воспринимать как бедных, необразованных и забитых. А по факту это уже не так.
Екатерина Деминцева: Мне кажется, Елена немного преувеличила картину, что все дети мигрантов хотят чего-то добиться. Когда я изучала второе поколение мигрантов во Франции, это была огромная проблема, потому что их родители приехали туда работать на время. Они сами они не собирались интегрироваться, и общество тоже не собиралось их интегрировать. Для них строились изолированные общежития — а потом в 1974 году им сказали «выезжайте из страны». Они этого не сделали, а, наоборот, привезли свои семьи и осели в Европе — но они все время сидели на чемоданах. Поэтому они попытались в своих кварталах сохранить свой образ жизни, они думали, что «мы сейчас еще тут лет 10 поработаем и поедем обратно». Потому же они запирали дома детей, чтобы на них не повлияло французское общество.
Почему это продолжает происходить? Потому что мы говорим об определенной социальной категории людей, мигрантах из деревень. Многие из них очень плохо говорили по-французски и никак не собирались интегрироваться в это общество. Когда я брала интервью у детей, выросших в этих семьях, они говорили: «Мой папа ненавидит Францию, потому что считает, что она меня растлевает».
Социальная категория этих приезжих очень важна, потому что они были из той страты, в которой люди не понимают, что школа может быть социальной лестницей для их детей.
Удивительно, но, согласно многим исследованиям, часто в таких семьях успеха достигали именно девочки — потому что девочек не пускали гулять, а выпускали только в школу. Некоторым из них даже запрещали смотреть телевизор. И что им оставалось? Только учиться, а потому они обычно учились довольно хорошо.
Но сейчас мы наблюдаем изменение миграции. Когда мы исследовали успеваемость детей выходцев из Средней Азии в Москве и Подмосковье, то выяснили, что все они имеют такие же, если не большие амбиции, что и другие школьники. Они очень часто слышат от родителей: «Хорошо учись, поступай в институт, и тогда ты здесь чего-нибудь добьешься».
Как показывают исследования, связанные с миграцией проблемы становятся менее острыми, если у человека высокий социальный уровень. Рано или поздно более образованные мигранты оказываются принятыми в соответствующий социальный круг. Главное, чтобы он имел те же компетенции, и те же знания, что и другой человек. Но граница между мигрантами и постоянным населением становится непроходимой, если мигрант происходит из низкой социальной группы.
Но это не всегда так просто. Например, сейчас во Францию едет очень много людей, которые принадлежат к высшим слоям общества в Африке. Они образованы, они говорят на классическом французском, которому выучились в отличных школах. Многие из них становятся средним классом во Франции и имеют там свой бизнес, но жалуются, что их не принимает местное общество. «Я стопроцентный француз, я вырос на французской культуре, я, может быть, больший француз, чем некоторые белые. Но я не могу стереть свою кожу», — так говорят многие из них.
Елена Филиппова: Это очень частая ситуация, когда люди оказываются «ни здесь, ни там». В новой стране ему говорят «поезжай домой», дома не признают и предлагают возвращаться откуда приехал. Очень часто у таких людей начинается раздвоение мышления.
Екатерина Деминцева: Отсюда происходит радикализация молодежи. Когда тебе все время напоминают, что ты не отсюда и у тебя другие корни, начинается поиск себя. Например, социологи начали изучили группы джихадистов во Франции. Все их участники были разного происхождения, не обязательно арабского. И оказалось, что некоторые из них раньше пытались попасть во Французскую армию — но их не взяли. То есть, они пытались найти какую-то группу, которая их примет, с которой они смогут себя идентифицировать. Когда с армией не получилось, нашлись «добрые люди», которые помогли им найти другую группу. Почему они туда попали? Потому что там их слушают и считают своим.
Распад СССР и беженцы
Елена Филиппова: Дискуссии на тему «миграция — это хорошо или плохо», идут столько, сколько я себя помню в качестве научного сотрудника. После распада СССР началась стрессовая миграция из бывших советских республик. В ее первой волне были в основном русские, которые направились в Россию, полагая, что здесь они будут на месте. Но ничего подобного не произошло. Вероятно, так случилось еще и потому, что наше доблестное правительство решило убить двух зайцев одним ударом: принять этих людей и заселить пустующую сельскую местность. Поэтому их отправляли в село, где они были у всех на виду — я думаю, что если бы они приезжали, как сегодняшние мигранты, в большие города, на них никто бы не обратил внимания. Но в селах они были восприняты в штыки.
«Кто они такие вообще, они говорят с акцентом», — так на них реагировали, например в Белгородской области. Но на самом деле приезжие усвоили нормативное произношение дикторов радио и телевидения.
Для таких переселенцев пытались пытались внедрить термин «репатрианты», но он не прижился. Вместо этого их стали называть «соотечественниками». Но кто такие соотечественники? Этим термином одни называли всех бывших граждан СССР, другие — всех выходцев из бывшей Российской империи, третьи — русских и славян (отсюда украинцы — это не иностранцы). Но получалось, что русские, белорусы, украинцы — это соотечественники, а казахи, киргизы, узбеки — нет. Здесь может быть единственное возможное правовое определение: «соотечественники» — это бывшие граждане СССР.
Но к этому никто не был готов. Миграционная служба несколько раз обсуждала вопрос об этнических преференциях при допуске мигрантов. Для этого ввели категорию «этнические россияне», в нее попали татары, башкиры, чеченцы — те народы, чья основная территория находится в Российской Федерации. Но тогда получается, что белорусы и украинцы сюда не входят, потому что у них есть свое государство. Разумной концепции репатриации не получилось, и мутная говорильня все потопила.
Так появились 25 миллионов русских по паспорту, которые оказались не в России. И еще 56 миллионов других людей, которые оказались вне своих этнических территорий: армяне в Казахстане, казахи в Азербайджане и так далее — все они выросли в этих местах и неожиданно оказались в небезопасной ситуации национальных меньшинств.
Накануне парламентских выборов 1996 года мы пытались лидерам фракций в Госдуме внушить мысль о поддержке мигрантов. Но все начиная от коммунистов и заканчивая Гайдаром, нас послали со словами: «Сколько у нас беженцев, два миллиона? А население России — это 140 миллионов. Население России не любит беженцев».
Но на самом деле обычно люди не хотят никуда ехать. Когда мы изучали миграцию после распада СССР, мы обратили внимание на то, что переселенцы — это особая категория людей. У них, как говорят психологи, внутренний локус контроля — то есть они сами отвечают за организацию своей жизни и жизни своей семьи. Они в самом деле мотивированы чего-то добиваться. А те, кто не мотивированы, они остались сидеть в бывших республиках, потому что авось обойдется, авось получится приспособиться.